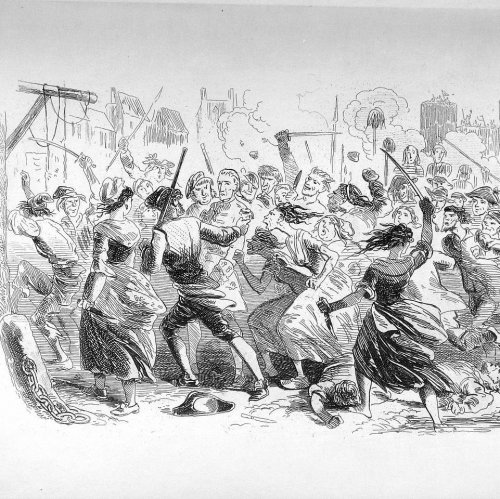- Главная
- Библиотека
- Книги
- Темы
- Сборники произведений
- Рождественские произведения
- Рождественские повести
Повесть Диккенса «Скряга Скрудж»

СВЯТОЧНАЯ ПЕСНЯ В ПРОЗЕ
Первая строфа
Призрак Мэрлея
Начнем сначала: Мэрлей умер. В этом не может быть и тени сомнения. Метрическая книга подписана приходским священником, причетником и гробовщиком. Расписался в ней и Скрудж, а имя Скруджа было громко на бирже, где бы и под чем бы ему ни благоугодно было подписаться.
Дело в том, что старик Мэрлей вбит был в могилу, как осиновый кол.
Позвольте! Не подумайте, чтобы я самолично убедился в мертвенности осинового кола: я думаю, напротив, что ничего нет мертвеннее в торговле гвоздя, вколоченного в крышку гроба…
Но… разум наших предков сложился на подобиях и пословицах, и не моей нечестивой руке подобает коснуться священного кивота веков — иначе погибнет моя отчизна…
Итак, вы позволите мне повторить с достодолжною выразительностию, что Мэрлей был вбит в могилу, как осиновый кол…
Спрашивается: знал ли Скрудж, что Мэрлей умер? Конечно, знал, да и как же не знал-то бы? Он и Мэрлей олицетворяли собою торговую фирму.
— Бог весть — сколько уж лет Скрудж был душеприказчиком, единственным поверенным, единственными другом и единственным провожатым мерлевского гроба. По правде, смерть друга не настолько его огорчила, чтобы он, в самый день похорон, не оказался деловым человеком и бережливым распорядителем печальной процессии.
Вот это-то слово и наводит меня на первую мою мысль, а именно, что Мэрлей, без сомнения, умер, и что, следовательно, если бы не умер он, в моем рассказе не было бы ничего удивительного.
Если бы мы не были убеждены, что отец Гамлета умер до начала пьесы, никто из нас не обратил бы даже и внимания на то, что господин почтенных лет прогуливается некстати, в потемках и на свежем ветерке, по городскому валу, между могил, с единственной целию — окончательно расстроить поврежденные умственные способности своего возлюбленного сына. Что касается собственно Скруджа, ему и в голову не приходило вычеркнуть из счетных книг имя своего товарища по торговле: много лет после смерти Мэрлея над входом в их общий магазин красовалась еще вывеска с надписью: «Скрудж и Мэрлей». Фирма торгового дома была все та же: «Скрудж и Мэрлей». Случалось иногда, что некоторые господа, плохо знакомые с торговыми оборотами, называли этот дом: Скрудж—Скрудж, а иногда и просто: Мерлей; но фирма всегда готова была откликнуться одинаково на то или на другое имя
О! Скрудж вполне изучил свой ручной жернов и крепко держал его в кулаке, милейший человек — и старый грешник: скупец напоказ, он умел и нажать, и прижать, и поскоблить, а главное — не выпустить из рук. Неподатлив он был и крепок, как ружейный кремень, — из него же даром и искры не выбьешь без огнива; молчалив был, скрытен и отшельнически замкнут, что устрица. Душевный холод заморозил ему лицо, нащипал ему заостренный нос, наморщил щеки, сковал походку и окислил голос. Постоянный иней убелил ему голову, брови и судорожно-лукавый подбородок. Всегда и повсюду вносил он с собою собственную свою температуру — ниже нуля, леденил свою контору даже в каникулы и ради самых святок не возвышал сердечного термометра ни на один градус.
Внешний жар и холод не имели на Скруджа ни малейшего влияния: не согревал его летний зной, не зяб он в самую жестокую зиму; а между тем резче его никогда не бывало осеннего ветра; никогда и никому не падали на голову так беспощадно, как он, ни снег, ни дождик; не допускал он ни ливня, ни гололедицы, ни изморози — во всем их изобилии: этого слова Скрудж не понимал.
Никто, и ни разу не встречал его на улице приветливой улыбкой и словами: «Как вы поживаете, почтеннейший мистер Скрудж? Когда же вы навестите нас?» Ни один нищий не решился протянуть к нему руки за полушкой; ни один мальчишка не спросил у него: «Который час?» Никто, ни мужчина, ни женщина, в течение всей жизни Скруджа, не спросили у него: «Как пройти туда-то?» Даже собака — вожатый уличного слепца, кажется, — и та знала Скруджа: как только его увидит, так и заведет своего хозяина либо под ворота либо в какой-нибудь закоулок и начнет помахивать хвостом, словно выговаривает: «Бедняжка мой хозяин! Знаешь ли, что лучше уж ослепнуть, чем сглазить добрых людей?»
Да Скруджу-то что за дело? Именно этого он и жаждал. Жаждал он пройти жизненным путем одиноко, помимо толпы, с вывеской на лбу: «Па—ади—берегись!» А затем — «И пряником его не корми!» — как говорят лакомки-дети.
Однажды в лучший день в году, в сочельник, старик Скрудж сидел в своей конторе и был очень занят. Морозило; падал туман; Скруджу было слышно, как прохожие по переулку свистят себе в кулаки, отдуваются, хлопают в ладоши и отплясывают на панели трепака, чтобы согреться.
На башне Сити пробило только — еще три часа пополудни, а на дворе было уж совсем темно. Впрочем и с утра не светало, и огни в соседних окнах контор краснели масляными пятнами на черноватом фоне густого, почти осязательного воздуха. Туман проникал в дома во все щели и замочные скважины; на открытом воздухе он до того сплотился, что, несмотря на узкость переулка, противоположные дома казались какими-то призраками. Глядя на мрачные тучи, можно было подумать, что они опускаются ближе и ближе к земле с намерением — задымить огромную пивоварню.
Дверь в контору Скруджа была отворена, так что он мог постоянно следить за своим приказчиком, занятым списыванием нескольких бумаг в темной каморке — нечто вроде колодца. У Скруджа еле-еле тлел в камельке огонь, а у приказчика еще меньше: просто один уголек. Прибавить к нему он ничего не мог, потому, что корзинка с угольями стояла в комнате Скруджа, и всякий раз, когда приказчик робко входил с лопаткой, Скрудж предварял его, что будет вынужден с ним расстаться. Вследствие сего приказчик обматывал себе шею белым «носопрятом» и пытался отогреться у свечки; но при таком видимом отсутствии изобретательности, конечно, не достигал своей цели.
— С праздником, дядюшка, и да хранит вас бог! — раздался веселый голос.
Голос принадлежал племяннику Скруджа, заставшему дядюшку врасплох.
— Это еще что за пустяки? — спросил Скрудж. Племянник так скоро шел к нему и так разгорелся на морозном тумане, что щеки его пылали полымем, лицо раскраснелось, как вишня, глаза заискрились и изо рту валил пар столбом.
— Как дядюшка: святки-то пустяки? — заметил племянник Скруджа. — То ли вы говорите?
— А что же? — ответил Скрудж. — Веселые святки. Да какое у тебя право — веселиться? Разоряться-то на веселье какое право?.. Ведь и так уж беден…
— Полно же, полно! — возразил племянник. — Лучше скажите мне: какое у вас право хмуриться и коптеть над цифирью?.. Ведь и так — уж богаты.
— Ба! — продолжал Скрудж, не приготовившись к ответу, и к своему «Ба!» прибавил: — Все это — глупости!
— Перестаньте же, дядюшка, хандрить.
— Поневоле захандришь с такими сумасшедшими. Веселые святки! Ну его, ваше веселье!.. И что такое ваши святки? Срочное время — платить по векселям; а у вас пожалуй, и денег-то нет… Да ведь с каждыми святками вы стареете на целый год и припоминаете, что прожили еще двенадцать месяцев без прибыли. Нет! Будь моя воля, я каждого такого шального за поздравительные побегушки приказал бы сварить в котле, — с его же пудингом, похоронить, да уж заодно, чтобы из могилы не убежал, проткнуть ему грудь сучком остролистника… Это — вот так!
— Дядюшка! — заговорил было племянник, — в качестве адвоката святок…
— Что, племянничек? — строго перебил его дядюшка. — Празднуй себе святки, как хочешь, а уж я-то отпраздную их по-своему.
— Отпразднуете? — повторил за ним племянник. — Да разве так празднуют?
— Ну и не надо!.. Тебе я желаю на новый год нового счастья, если старого мало.
— Правда, мне кой-чего не достает… Да нужды нет, что новый год ни разу еще не набил мне кармана, а все-таки святки для меня — святки.
Приказчик Скруджа невольно зарукоплескал этой речи из известного нам колодца; но, поняв все неприличие своего поступка, бросился поправлять огонь в камельке и затушил последнюю искру.
— Если вы еще затушите, — сказал ему Скрудж, — вам придется праздновать святки на другом месте. А вам, сэр, прибавил он, обратившись к племяннику, я должен отдать полную справедливость: вы — превосходный вития и напрасно не вступаете в парламент.
— Не сердитесь, дядюшка, будет! Приходите к нам завтра обедать.
Скрудж ему ответил, чтобы он пошел к… Право, так и сказал, все слово выговорил, — так-таки и сказал: «Пошел…» (Читатель, может, если заблагорассудит, договорить слово).
— Да почему же? — вскрикнул племянник. — Почему?
— А почему ты женился?
— Потому, — что влюбился.
— Любовь! — пробормотал Скрудж, да так пробормотал, как будто бы, после слова «Новый год», «любовь» была самым глупым словом в мире.
— Послушайте, дядюшка! Ведь вы и прежде никогда ко мне не заходили; причем же тут моя женитьба?
— Прощай! — сказал Скрудж.
— Я от вас ничего не желаю, ничего не прошу; отчего же нам не остаться друзьями?
— Прощай! — сказал Скрудж.
— Я истинно огорчен вашей решимостью… Между нами, кажется, ничего не было… по крайней мере, с моей стороны… хотелось мне провести с вами первый день, — ну? что ж делать! я все-таки повеселюсь — и вам того же желаю.
— Прощай! — сказал Скрудж.
Племянник вышел из комнаты, ни полсловом не выразив своего неудовольствия; но остановился на пороге и поздравил с наступающим праздником провожавшего его приказчика, а в том, несмотря на постоянный холод, было все-таки больше теплоты, чем в Скрудже. Поэтому он отвечал радушно на приветствие своего поздравителя, так что Скрудж услыхал его слова из своей комнаты и прошептал:
— Вот, еще дурак-то набитый! Служит у меня приказчиком; получает пятнадцать шиллингов в неделю; на руках жена и дети; а туда же — радуется празднику!… Ну, как же не сам напрашивается в дом сумасшедших?
В это время набитый дурак, проводив племянника Скруджа, ввел за собою в контору двух новых посетителей; оба джентльмена казались крайне порядочными людьми, с благовидной наружностью, и оба при входе сняли шляпы. В руках у них были какие-то реестры и бумаги.
— Скрудж и Мэрлей, кажется? — спросил один из них с поклоном и поглядел в список. — С кем имею удовольствие говорить: с мистером Скруджем или с мистером Мэрлеем?
— Мистер Мэрлей умер семь лет тому, — ответил Скрудж. — Ровно семь лет тому умер, именно в эту самую ночь.
— Мы не сомневаемся, что великодушие покойного нашло себе достойного представителя в пережившем его компаньоне! — сказал незнакомец, предъявляя официальную бумагу, уполномочивавшую его на собрание милостыни для бедных.
Сомневаться в подлинности этой бумаги было невозможно; однако же при досадном слове «великодушие» Скрудж нахмурил брови, покачал головой и возвратил своему посетителю свидетельство.
— В эту радостную пору года, мистер Скрудж, — заговорил посетитель, взяв перо, — было бы всего желательнее собрать посильное пособие бедным и неимущим, страдающим теперь более, чем когда-нибудь: тысячи из них лишены самого необходимого в жизни; сотня тысяч не смеют и мечтать о наискромнейших удобствах.
— Разве тюрьмы уже уничтожены? — спросил Скрудж.
— Помилуйте, — отвечал незнакомец, опуская перо. — Да их теперь гораздо больше, чем было прежде…
— Так, стало быть, — продолжал Скрудж, — приюты прекратили свою деятельность?
— Извините, сэр, — возразил собеседник Скруджа, — дай-то бог, чтобы они ее прекратили?
— Так человеколюбивый жернов все еще мелет на основании закона?
— Да! И ему, и закону много еще дела.
— О!… А я ведь подумал было, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешало существованию этих полезных учреждений… Искренно, искренно рад, что ошибся! — проговорил Скрудж.