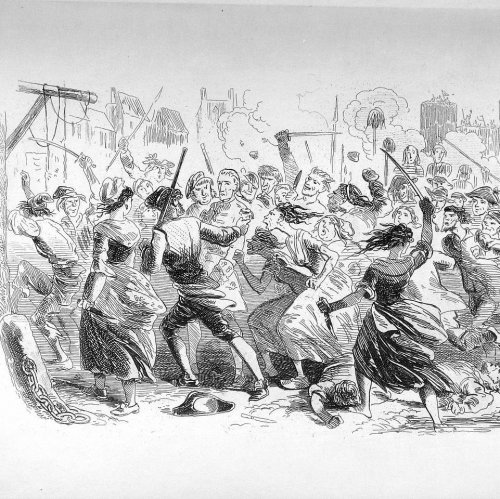- Главная
- Библиотека
- Книги
- Темы
- Сборники произведений
- Рождественские произведения
- Рождественские повести
Повесть Диккенса «Скряга Скрудж»: Страница 4

В руках он держал зеленую ветвь остролистника, только что срезанного и, вероятно, ради противоречия этой эмблеме зимы был усеян всевозможными летними цветами. Но что еще было страннее в его одежде, это то, что поверх его головы сверкало сияние, озарявшее, вероятно, в минуты радости и горя все мгновения жизни. Свет этот выходил, как я уже сказал, из его головы, но он мог его затушить, когда хотел, большой воронкой, или — чем-то вроде нее, положим, — воронкой, прижатой подмышкой.
Тем не менее этот инструмент, какой бы он ни был, не привлек на себя исключительного внимания Скруджа. Занял его, собственно говоря, пояс; то там блеснет, то здесь, то потухнет, и вся физиономия его обладателя, так или не так, примет соответственно выражение. То — существо однорукое, то — одноногое, то — на двадцати ногах без головы, то — голова без тела: члены исчезали, не дозволяя видеть перемены в своих причудливых очерках. А потом он снова становился самим собою, больше чем когда-нибудь.
— Милостивый государь! — спросил Скрудж, — вы ли предсказанный мне дух?
— Я.
Голос был так сладок, так приятен и так тих, как будто шептал не на ухо Скруджу, а где-то далеко.
— Да кто же вы? — спросил Скрудж.
— Прошлый праздник.
— Прошлый? а давно ли? — продолжал Скрудж, вглядываясь в рост карлика.
— Последний.
Если бы, кто-нибудь спросил Скруджа — почему? Он бы не ответил, а все-таки сгорал желанием — нахлобучить на своего посетителя известную уже читателям воронку, и попросил об этом духа.
— Вот еще! — крикнул призрак. — Не угодно ли вам затушить мирскими руками небесное пламя? Вот еще!.. Да не вы ли один из тех, что надели на меня эту шапку из одного черствого самолюбия и заставили нести ее веки и веки?..
Скрудж отрекся почтительно от всякого намерения оскорбить или «принакрыть» какого бы то ни было духа. Потом он осмелился его спросить: что ему угодно?
— Вашего счастия, — ответил призрак.
Скрудж поблагодарил, но никак не мог удержаться от мысли, что покойная ночь гораздо бы скорее достигла предло̀женной цели. Вероятно, дух поймал его мысль на лету, потому что немедленно сказал:
— Вашего счастия, то есть вашего спасения… так берегитесь же…
При этих словах он протянул свою крепкую руку и тихонько взял под руку Скруджа.
— Встаньте и идите за мной! — сказал он.
Напрасно Скрудж проповедовал бы, что время года и час не соответствовали пешеходной прогулке, что на постели ему гораздо теплее, чем на дворе, что термометр его стоит гораздо ниже нуля, что он слишком легко одет, то есть в туфлях, в халате и в ночном колпаке, да к тому же у него и насморк, — напрасна была бы вся эта проповедь: не было никакой возможности освободиться от пожатия этой женственно мягкой руки. Скрудж встал, но, заметя, что дух направляется к окошку, ухватился за полы его одежды, умоляя.
— Вы подумайте: я ведь смертный — упасть могу.
— Позвольте только прикоснуться сюда, — сказал дух, положив ему руку на сердце, — вам придется вынести много еще пыток. — Не успел он договорить, как они пролетели сквозь стены и очутились на поле. Города как не бывало. Разом исчезли и потьмы, и туман, потому что день был зимний и снег забелел.
— Господи! — сказал Скрудж, всплеснув руками и всматриваясь. — Да ведь здесь я вырос!
Дух посмотрел на него благосклонно. Тихое мгновенное его прикосновение пробудило в старике былую чувствительность: пахнуло на него чем-то прошлым, чем-то таким ароматным, что так и повеяло воспоминаниями о прежних надеждах, прежних радостях и прежних заботах, давным-давно забытых!
— У вас губы дрожат! — сказал призрак. — И что это у вас на щеке?
— Ничего, — прошептал Скрудж странно взволнованным голосом, — не страх мне вырвал щеку, это не признак его, а просто — ямочка. Ведите меня — куда надо.
— А дорогу вы знаете? — спросил дух.
— Я-то! — крикнул Скрудж. — Да я найду ее с завязанными глазами.
— Странно, в таком случае, что вы не забыли в течение стольких лет! — заметил дух. — Пойдемте.
Пошли по дороге; Скрудж узнавал каждые ворота, каждую верею, каждое дерево до тех пор, пока перед ними не показался в отдалении городок, с мостом, собором и извилистой речкой. Несколько длинногривых пони, запряженных в тележки, протрусили мимо. На пони сидели мальчишки и весело перекликались.
— Это ведь только тени прошлого, — сказал призрак, — они не видят нас.
Веселые путешественники проезжали мимо, и Скрудж узнавал каждого из них и называл по имени.
И почему он был так доволен их видеть? И почему его взгляд, постоянно безжизненный, вдруг оживился?
И почему его сердце задрожало при виде этих проезжих? И почему был он так счастлив, когда услыхал обоюдные поздравления с наступающим праздником, на пути ко всякому перекрестку? И разве мог быть для Скруджа веселый рождественский праздник? Для него веселый рождественский праздник был — парадокс. Ничего он ему никогда не принес.
— Школа еще не совсем опустела: там остался еще одинокий ребенок, забытый всеми товарищами! — сказал дух.
— Узнаю, — подтвердил Скрудж, и вздохнул глубоко.
Свернули они с большой дороги на проселок, коротко знакомый Скруджу, и приблизились к строению из темного кирпича с флюгерком наверху.
Над крышей висел колокол; дом был старинный, надворные строения пустовали; стены их просырели и обомшились, стекла в окнах были перебиты, двери соскочили с петлей. В конюшнях чванливо кудахтали куры; сараи и амбары поросли травою. И внутри не сохранило это здание своего былого вида, потому что кто бы ни вступил в темные сени, кто бы ни взглянул в раскрытые двери на длинный ряд отворенных комнат, увидал бы, как они обеднели, обветшали, как они холодны и как одиночествуют. Пахло холодной, нагою тюрьмой или рабочим домом, где каждый день выбивались из сил и все-таки голодали. Прошли дух и Скрудж в заднюю сенную дверь и увидали длинную печальную залу с сосновыми школьными скамьями и пульпитрами, выровненными в ряд. У одной из пульпитр, пригретый слабым печным огоньком, сидел одинокий ребенок и что-то читал. Скрудж сел на скамейку и заплакал, узнав самого себя, постоянно забытого и покинутого.
Не было ни одного отзвука, заглохшего в доме, ни одного писка мышей, дравшихся за обоями, ни одной полузамороженной капли, падавшей на задворке из водомета, ни одного шелеста ветра в обезлиственных ветвях тощей тополи, ни одного скрипа дверей опустелого магазина, ни малейшего треска огонька в камельке, — ничего, ничего, что бы не прозвучало в сердце Скруджа, что не выдавило бы у него из глаз обильного ручья слез.
Дух тронул его за руку и указал ему на ребенка, на этого «самого себя» Скруджа, углубленного в чтение.
— Бедный ребенок! — сказал Скрудж, и опять заплакал. — Хотелось бы мне, — прошептал он, засунув руку в карман, оглядываясь, и отирая рукавом глаза, — хотелось бы мне, да поздно…
— Что такое поздно? — спросил дух.
— Ничего, — ответил Скрудж, — ничего. Вспомнил я о мальчике… Вчера у меня Христа славил… Хотелось бы мне ему дать что-нибудь: вот и все…
Раздумчиво улыбнулся призрак, махнул Скруджу рукой, чтобы замолчал, и проговорил:
— Посмотрим на новый праздник.
Скрудж увидал самого себя уже подростком в той же зале, только побольше темной и побольше закоптелой. Подоконники растрескались; перелопались стекла; с потолка свалилась кучами известка и оголила матицу. Но — как это все воочию совершилось, Скрудж не понял, точно так же как и вы, читатели.
Но понял он вот что:
Что все это — было, что из тогдашних школьников остался он в этой зале один, как и прежде, а все остальные, как и прежде, убрались восвояси, повеселиться на святках.
Читать он уже не читал, но шагал по знакомой зале взад и вперед, в полном отчаянии.
Скрудж посмотрел на юного духа, тоскливо покачал головой и тоскливо глянул на сенную дверь. Дверь распахнулась настежь, и в нее влетела стрелкой маленькая девочка. Обвилась руками кругом шеи Скруджа и стала целовать, лепеча:
— Голубчик — голубчик мой братец, за тобой приехала! — говорила она, хлопая в ладоши маленькими своими ручонками, и покатываясь со смеху. — Домой! домой! домой!
— Домой! моя малютка Фанни? — спросил мальчик.
— Домой! — повторила она, просияв всем лицом, — и навсегда, навсегда!.. Папенька теперь такой добрый, что в доме рай. Как-то вечером, на ночь, стал он говорить со мной так нежно, что я уже не побоялась спросить у него: нельзя ли взять тебя на праздник домой? Отвечал: «Можно». И повозку со мною прислал. Неужели ты уж большой?.. — продолжала она, поглядев на Скруджа во все глаза. — Стало быть, ты сюда никогда уж не вернешься?.. На святках мы с тобой повеселимся.
— Да ведь, кажется, и ты уже женщина, малюточка Фанни? — крикнул юноша.
Опять Фанни захлопала в ладоши и опять покатилась со́ смеху. Потом хотела погладить Скруджа по голове, но по малости своего роста не достала, — еще раз расхохоталась и приподнялась на цыпочки — поцеловать. Тогда, во имя этого ребячески-откровенного поцелуя, потащила его к двери, и пошел он за ней без малейшего сожаления о школе.
В сенях они услыхали страшный голос:
— Выкинуть чемодан мистера Скруджа!.. скорей!..
Вслед за этим голосом появился и сам его обладатель — наставник школьника, потряс ему руку так, что привел его в неописанный трепет, ради разлуки. Затем и братца, и сестрицу пригласил он в отжившую свой век залу до того низкую, что можно было принять ее за погреб, и до того холодную, что в простенках ее окон мерзли и земные, и небесные глобусы. Пригласил и попотчевал молодую чету таким легоньким винцом и таким тяжелым пирожком, словом, такими лакомствами, что когда выслал невзрачного своего служителя — угостить чем-нибудь дожидавшегося почтальона, — почтальон отвечал, что если намеднишним винцом, уж лучше бы не подносил. Тем временем чемодан мистера Скруджа был укреплен на верх повозки; радостно простились дети с воспитателем и весело пронеслись по садовой просеке, вспенивая колесами экипажа и снег, и иней, обсыпавший хмурые листья деревьев.
— Была в ней искра божьего огонька, — сказал призрак, — и задуть ее можно было одним дуновением, да сердце-то у нее билось горячо…
— Правда ваша, — отвечал Скрудж, — и оборони бог — мне с вами об этом спорить.
— Ведь она, кажется, была замужем, — спросил дух, — и умерла, оставив по себе двух детей?
— Одного, — отвечал Скрудж.
— Ваша правда, — продолжал дух, — одного — вашего племянника.
Скруджу стало как-то неловко и отвечал он коротко:
— Да.
Несмотря на то что Скрудж только что выехал из школы, очутился он на многолюдных улицах какого-то города: словно тени пронеслись перед ним, не то люди, не то тележки, не то кареты, оспаривавшие друг у друга мостовые, и перекликались на мостовых и шум, и всевозможные возгласы настоящего города. Было ясно по ярким выставкам товаров в лавчонках и магазинах, что и там празднуют канун Рождества Христова; как ни темен был вечер, улицы осветились.
Дух остановился у двери какого-то магазинчика и спросил у Скруджа: узнает ли?
— Это что за вопрос?.. — сказал Скрудж. — Ведь здесь я учился, здесь приказчиком был.
Оба вошли. При виде старичка в уэлльском парике, засевшего за конторкой так высоко, что — будь в этом джентльмене еще хоть два дюйма росту, — он бы наверное стукнулся теменем о потолок, взволнованный Скрудж крикнул:
— Да ведь это сам Феццивиг воскрес, и да простит старика всевышний!