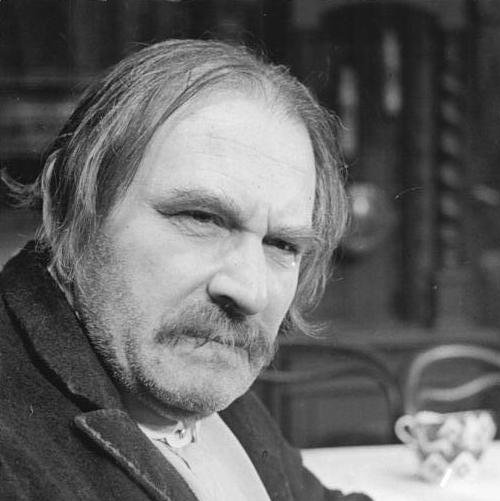- Главная
- Библиотека
- Книги
- Темы
- Литературные произведения по формам
- Повести
- Повести по авторам
- Повести авторов на букву Г
- Повести Максима Горького
Повесть Горького «Жизнь ненужного человека»: Страница 54

Не сразу и тихо Евсей сказал:
– Прямо…
В голове у него тупо стучали обидные мысли:
«Как собаку зароют его… И меня так же…»
Встречу ему двигалась улица, вздрагивали, покачиваясь, дома, блестели стёкла, шумно шли люди, и всё было чуждо.
«Уничтожу Сашку… сейчас пойду и застрелю…»
Отпустив извозчика, он вошёл в ресторан, в котором Саша бывал редко, реже, чем в других, остановился перед дверью комнаты, где собирались шпионы, и сказал себе:
«Сразу, как увижу, выстрелю…»
Тихонько, дрожащею рукою, он постучал в дверь и, ощупывая в кармане револьвер, застыл в холодном ожидании.
– Это кто? – спросили из-за двери.
– Я, – сказал Евсей.
Тогда дверь немножко приотворилась, в щели мелькнул глаз и красноватый маленький нос Соловьева.
– А-а-а? – удивлённо протянул он. – А был слушок, что тебя убили…
– Нет, не убили! – сердито отозвался Климков, снимая пальто.
– Запри дверь… Говорили, что, будто, шёл ты с Мельниковым…
Он внимательно жевал ветчину, это мешало ему говорить, жирные губы медленно выпускали равнодушные слова и чмокали.
– Значит, неверно, что ты с Мельниковым ходил?
– Почему неверно? – спросил Евсей.
– Да вот… живёхонек ты, а ему плохо… Видел я его вчера…
– Где?
Шпион назвал больницу, в которой Евсей только что был.
– Зачем он там? – безучастно осведомился Климков.
– А такая история, ударил его казак шашкой по голове, и лошади потоптали. Как это случилось и почему – неизвестно. Сам он лежит без памяти, доктор сказал – не встанет…
Соловьев налил маленькую рюмку какой-то зелёной водки, посмотрел её на свет, прищурив глаз, выпил и спросил Евсея:
– Где же это ты скрываешься, а?
– Я не скрываюсь…
Где-то в коридоре упала тарелка, Евсей вздрогнул и, вспомнив, что позабыл вынуть револьвер из кармана пальто, встал на ноги.
– Саша очень на тебя зубы точит…
В глазах Евсея проплыл злой и красный диск луны, окружённый облаком пахучего лилового тумана, ему вспомнился гнусавый, командующий голос, жёлтые пальцы костлявых рук.
– Он не придёт сюда?
– Не знаю…
Лицо у Соловьева лоснилось, он, видимо, был чем-то очень доволен, улыбался чаще, чем всегда, в голосе его звучала небрежная ласка барина, это было противно Евсею.
Метались, разбивая одна другую, несвязные думы:
«Все вы сволочи. Мельникова жалко. Значит, этот жирный не хотел признать Якова. Почему?»
– Вы Зарубина видели?
– Это какого? – подняв брови, спросил Соловьев.
– Знаете.
– Да, да, да… Как же! Видел…
– А почему вы не сказали там, что знаете его? – строго спросил Евсей.
Старый шпион приподнял лысую голову и с удивлением, насмешливо спросил:
– Ка-ак?
Евсей повторил вопрос, но уже мягче.
– Это дело не твоё, милый мой, ты так и знай! Жалеючи твою глупость, я тебе скажу, что нам дураки не нужны, мы их не знаем, не понимаем, не узнаём. Это тебе надо помнить ныне, и присно, и на всю жизнь. Пойми и привяжи язык верёвкой…
Маленькие глазки Соловьева светились холодно, как две серебряные монетки, и голос обещал злое, жестокое. Шпион грозил коротким, толстым пальцем, жадные, синеватые губы сурово надулись, но это было не страшно.
«Всё равно, – думал Евсей, – все они – одна шайка, – всех надо…»
Он подскочил к своему пальто, выхватил из кармана револьвер, направил дуло на Соловьева и глухо крикнул:
– Ну…
Старик колыхнулся, сполз с кресла на пол, одной рукой он схватил ножку стола, другую протянул к Евсею и громким шёпотом забормотал:
– Не… не надо!.. Милостивый государь… не троньте!
Климков нажимал пальцем курок всё туже, туже, и от усилия у него холодела голова, шевелились волосы.
– Я – женюсь завтра… Никогда не буду… – шуршали в воздухе тяжёлые, трусливые слова. На подбородке шпиона блестел жир, и салфетка на груди его дрожала.
Револьвер не стрелял, Евсею было больно палец, и ужас, властно охватывая его с головы до ног, стеснял дыхание.
– Могу дать вам денег! – быстрее зашептал Соловьев, – ничего не скажу…
Климков размахнулся, бросил револьвер в лицо шпиона, схватил пальто, побежал. Его догнали два слабых крика:
– Ай, ай…
И, точно пиявки, впились ему в затылок, окрыляя бешеной силой ужаса.
Они гнали его долго, и всё время ему казалось, что сзади него собралась толпа людей, бесшумно, не касаясь ногами земли, бежит за ним, протягивая к его шее десятки длинных, цепких рук, касаясь ими волос. Она играла им, издевалась, исчезая и снова являясь, он нанимал извозчиков, ехал, спрыгивал с пролётки, бежал и снова ехал, она же всё время была близко, невидимая и тем более страшная.
Стало легче, когда он увидал перед собой тёмную узорную стену деревьев и голые сучья, протянутые встречу к нему. Он быстро нырнул в их толпу, крепко стоявшую на земле, и пошёл среди неё, двигая руками сзади себя, как бы желая плотнее сдвинуть деревья за своей спиной. Спустился в овраг, сел там на холодный песок, снова встал и пошёл вдоль оврага, тяжело дыша, потный и пьяный от страха. Но скоро увидал впереди просвет, осторожно прислушался, бесшумно сделал ещё несколько шагов, выглянул, – перед ним тянулось полотно железной дороги, за насыпью снова стояли деревья, но они были редкие, мелкие, и сквозь их сети просвечивала серая крыша какого-то здания.
Он быстро пошёл назад, вверх по руслу оврага, назад, где лес был гуще и темнее.
«Поймают… – толкала его холодная уверенность. – Они поймают…»
По лесу блуждал тихий, медленный звон, он раздавался где-то близко, шевелил тонкие ветки, задевая их, и они качались в сумраке оврага, наполняя воздух шорохом, под ногами сухо потрескивал тонкий лёд ручья, вода его вымерзла, и лёд покрывал белой плёнкой серые, сухие ямки.
Климков сел, нагнулся, положил в рот кусок льда и тотчас же вскочил на ноги, вскарабкался на крутой скат оврага, снял ремень, подтяжки и начал связывать их, озабоченно рассматривая сучья над головой и без жалости к себе соображая:
«Пальто не надо снимать. Тяжелее – скорее…»
Он торопился, пальцы дрожали, и плечи его невольно поднимались кверху, точно желая спрятать шею, а в голове пугливо билось:
«Не успею…»
Промчался поезд, деревья недовольно загудели, задрожала земля, между сучьев появился белый пар.
Прилетели синицы. Бойко посвистывая, они мелькали в тёмных сетях сучьев, их торопливая суета ускоряла движения холодных непослушных пальцев Евсея.
Закинув ремень петлёй за сучок, Климков потянул его вниз, было крепко. Тогда он, так же поспешно, стал делать другую петлю, скрутив подтяжки жгутом, и, когда всё было готово, вздохнул…
«Теперь надо помолиться…»
Но слова молитв не приходили на память. Он задумался на несколько секунд.
«Раиса знала мою судьбу», – неожиданно вспомнил он и, сунув голову в петлю, тихо, просто и без трепета в груди сказал:
– Во имя отца и сына и святаго духа…
Толкнув ногами землю, он подпрыгнул вверх и согнул ноги в коленях. Его больно дёрнуло за ушами, ударило в голову каким-то странным, внутренним ударом; ошеломлённый, он всем телом упал на жёсткую землю, перевернулся и покатился вниз, цепляясь руками за корни деревьев, стукаясь головой о стволы, теряя сознание.
А когда очнулся, то увидал, что сидит в овраге и на груди у него болтаются оборванные подтяжки, брюки лопнули, сквозь материю жалобно смотрят до крови исцарапанные колени. Всё тело полно боли, особенно болела шея, и холод точно кожу с него сдирал. Запрокинувшись назад, Евсей посмотрел на обрыв, – там, под белым сучком берёзы, в воздухе качался ремень тонкой змеёй и манил к себе.
«Не могу!» – с отчаянием думал Евсей.
И, заплакав слезами бессилия, обиды, лёг на землю спиной. Сквозь слёзы видел однотонное мутное небо, исчерченное сухими узорами чёрных сучьев.
Лежал долго, страдая от холода и боли, кутался в пальто, перед ним, помимо его воли, проходила цепью дымно-тёмных колец его бессмысленная жизнь.
Несколько раз поезда, проходя мимо рощи, наполняли её грохотом, облаками пара и лучами света; эти лучи скользили по стволам деревьев, точно ощупывая их, желая найти кого-то между ними, и торопливо исчезали, быстрые, дрожащие и холодные.
Когда они нашли Евсея, коснулись его, он с трудом поднялся на ноги и пошёл в сумерках рощи вслед за ними. У опушки остановился и, прислонясь к дереву, стал ждать, слушая отдалённый, сердитый шум города. Уже был вечер, небо посинело, над городом тихо разгоралось матовое зарево.
Вдали родился воющий шум и гул, запели, зазвенели рельсы; в сумраке, моргая красными очами, бежал поезд; сумрак быстро плыл за ним, становясь всё гуще и темнее. Евсей торопливо, как только мог, взошёл на путь, опустился на колени, потом улёгся поперёк пути на бок, спиною к поезду, положил шею на рельс и крепко закутал голову полою пальто.
Несколько секунд ему было приятно ощущать жгучее прикосновение железа, оно укрощало боль в шее, но рельс дрожал и пел громче, тревожнее, он наполнял тело ноющим стоном, и земля, тоже вздрагивая мелкою дрожью, как будто стала двигаться, уплывая из-под тела, отталкивая его от себя.
Поезд катился тяжело и медленно, но уже оглушал лязгом сцеплений, равномерными ударами колёс на стыках рельс, его тяжёлое дыхание ревело и толкало Климкова в спину, и всё вокруг Евсея и в нём тряслось, бурно волновалось, отрывая его от земли.
Он не мог более ждать, вскочил на ноги, побежал вдоль рельс и закричал высоким, визгливым голосом:
– Я всё буду… я буду… буду…
По гладко отшлифованному металлу рельс скользили, обгоняя Климкова, красноватые лучи огня, они разгорались ярче, две красные полосы железа казались раскалёнными и стремительно текли вдоль по бокам Евсея, направляя его бег.
– Я – буду!.. – визжал он, размахивая руками. Что-то жёсткое толкнуло его в зад, он ткнулся на шпалы между красными струнами рельс, и железный суровый грохот раздавил его слабый визг…