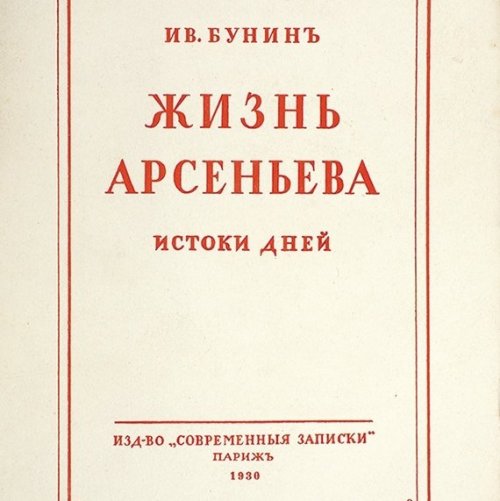Роман Бунина «Жизнь Арсеньева»: Книга четвёртая. Глава двенадцатая

В Харькове я сразу попал в совершенно новый для меня мир.
В числе моих особенностей всегда была повышенная восприимчивость к свету и воздуху, к малейшему их различию. И вот первое, что поразило меня в Харькове: мягкость воздуха и то, что света в нем было больше, чем у нас. Я вышел из вокзала, сел в извозчичьи сани, – извозчики, оказалось, ездили тут парой, с глухарями-бубенчиками и разговаривали друг с другом на вы, – оглянулся вокруг и сразу почувствовал во всем что-то не совсем наше, более мягкое и светлое, даже как будто весеннее. И здесь было снежно и бело, но белизна была какая-то иная, приятно слепящая. Солнца не было, но света было много, больше во всяком случае, чем полагалось для декабря, и его теплое присутствие за облаками обещало что-то очень хорошее. И все было мягче в этом свете и воздухе: запах каменного угля из-за вокзала, лица и говор извозчиков, громыханье на парных лошадях бубенчиков, ласковое зазыванье баб, продававших на площади перед вокзалом бублики и семячки, серый хлеб и сало. А за площадью стоял ряд высочайших тополей, голых, но тоже необыкновенно южных, малорусских. А в городе на улицах таяло…
Однако все это было ничто в сравнении с тем, что ожидало меня в тот день далее: такого количества новых чувств я еще никогда не испытывал, столько знакомств за всю жизнь не делал. Бывает так, что в первый же день по приезде куда-нибудь попадаешь на редкое обилие впечатлений и встреч. Так было и со мной в тот день.
В брате, который встретил меня с радостным изумлением, оказалось тоже что-то новое, – он тут, в Харькове, был как будто какой-то другой, чем в Батурине, как будто менее близок мне, несмотря на всю радость, с которой мы встретились. И как странна была его харьковская жизнь! Пусть и впрямь был он «вечный студент», по выражению отца, но ведь все-таки был он Арсеньев. А где же нашел я его? В какой-то узкой уличке, идущей под гору, в каменном и грязном дворе, густо пахнущем каменным углем и еврейскими кухнями, в тесной квартирке какого-то многосемейного портного Блюмкина… Правда, даже и это было страшно хорошо своей новизной, но все же я был поражен. – Ну, как отлично, что ты попал в воскресенье и застал меня! – сказал брат, расцеловавшись со мной. – Хотя, собственно, зачем ты приехал? – тотчас же прибавил он, стараясь говорить в том вечно насмешливом тоне, который был так принят в нашей семье.
Я ответил, что и сам не знаю, зачем… затем, конечно, чтобы посоветоваться наконец серьезно, как же мне в самом деле быть с собой? Но брат уже не слушал, – «обдумаем как-нибудь!» уверенно сказал он, – и тотчас же стал торопить меня умыться, приодеться и идти обедать с ним в кухмистерскую какого-то «пана» Лисовского, где всегда обедали многие из его сослуживцев по земской статистике. И вот мы вышли и пошли из улицы в улицу, продолжая что попало говорить с обычной в таких случаях беспорядочностью, меж тем как у меня, – одетого уже горожанином и очень это чувствующего, – глаза разбегались на эти улицы, казавшиеся мне совершенно великолепными, и на то, что окружало меня: после полудня стало совсем солнечно, всюду блестело, таяло, тополя на Сумской улице возносились верхушками к пухлым белым облакам, плывшим по влажно-голубому, точно слегка дымящемуся небу…
А у пана Лисовского оказался необыкновенно интересный низок, стойка с превосходными и удивительно дешевыми закусками, – особенно хороши были как огонь горячие и страшно перченые блинчатые пирожки по две копейки штука. Когда мы сели за большой отдельный стол, стали подходить и присоединяться к нам люди уже и совсем для меня странные, на которых я смотрел тем более жадно, что все это были как раз те самые (как будто совсем особые от всех прочих) люди, о которых я столько наслушался от брата еще в Батурине. Со всеми с ними брат знакомил меня с радостной поспешностью и даже как будто с гордостью. И вскоре у меня голова кругом шла: и от этого совершенно для меня непривычного и столь замечательного общества, и от этого людного низка, в полуподвальные окна которого по-весеннему весело блестел сверху солнечный свет и видны были всяческие ноги идущих взад и вперед по улице, и от красного горячего борща, и от того, что весьма оживленный разговор за нашим столом шел все о чем-то совсем неизвестном, а меж тем казавшемся чрезвычайно интересным мне: о знаменитом статистике Анненском, имя которого произносилось с неизменным восхищением, о каком-то волжском губернаторе, который будто бы порол голодающих мужиков, чтобы они не распространяли слухов о своем голоде, о предстоящем в Москве Пироговском съезде, который, как всегда, должен быть целым событием…
Легко представляю себе, до чего резко выделялся я за этим обедом своей юностью, свежестью, деревенским загаром, здоровьем, простосердечностью, горячей и напряженной внимательностью слуха и зрения, вид имевшей, вероятно, даже глупости и отупения! Очень выделялся и брат. И он был из какого-то совсем другого мира, чем все прочие, несмотря на всю близость к ним; и он казался моложе и как будто наивней всех, имел какой-то более тонкий вид и даже иной язык.
Многие из этого общества были, как я понял впоследствии, очень типичны и по внешности и по всему прочему. Некоторых я втайне уже не одобрил кое в чем: один, очень длинный и узкогрудый, был слишком близорук и все сутулился, все держал руку в кармане штанов и все мелко тряс ногой, на которой лежала другая, чудодейственно заплетенная за нее винтом нога; другой, желтоволосый, прозрачно-желтый и худой лицом, говорил, как мне казалось, чересчур много, горячо и вдохновенно и, не глядя на папиросу, все сбивал с нее пепел вытянутым костлявым указательным пальцем той же руки, в которой держал ее; а следующий все чему-то едко ухмылялся, делая то, что мне было особенно неприятно: все катал по скатерти двумя пальцами катышку белого хлеба, уже давно ставшую грязной … Но зато некоторые другие были чрезвычайно милы: поляк Ганский с глубокими и скорбными глазами и запекшимися губами, куривший неустанно, глубоко затягиваясь и поминутно поджигая и без того горящую папиросу дрожащей рукой; огромный ростом и живописно-кудлатый Краснопольский, похожий на Иоанна Крестителя; бородатый Леонтович, который был старше и, как статистик, известней всех и сразу очаровал меня ласковым спокойствием, доброжелательной рассудительностью и, главное, необыкновенно приятным, чисто малорусским звуком грудного голоса; затем некто Падалка, маленький востроносенький, в очках, до нельзя рассеянный, неистово пылкий, все на что-то страстно негодовавший и вместе с тем такой детски чистый, искренний, что я тотчас же полюбил его еще более, чем Леонтовича. Ужасно понравился мне еще статистик Вагин, – статистик, как я узнал потом, такой заядлый, что для него, казалось, во всем мире не существовало ничего, кроме статистики, – крепкий, рослый, белозубый, по-мужицки красивый и веселый, – он и был из мужиков, – хохотавший раскатисто и заразительно, говоривший крупно, окая… И ужасную неприязнь возбуждали два человека: бывший рабочий Быков, коренастый парень в блузе, в кудрявой голове которого, в толстой шее и выкаченных глазах было и впрямь что-то бычье, и еще один, по фамилии Мельник: весь какой-то дохлый, чахлый, песочно-рыжий, золотушный, подслепый и гнусавый, но необыкновенно резкий и самонадеянный в суждениях, – много лет спустя оказавшийся, к моему крайнему изумлению, большим лицом у большевиков, каким-то «хлебным диктатором…»