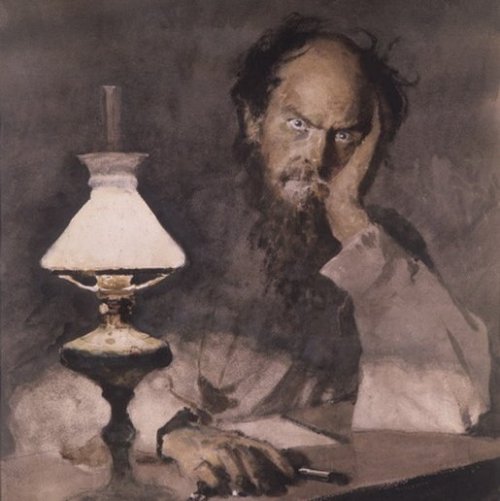Роман Достоевского «Бесы»: Часть 3. Глава 8. Заключение

I
Все совершившиеся бесчинства и преступления обнаружились с чрезвычайною быстротой, гораздо быстрее, чем предполагал Петр Степанович. Началось с того, что несчастная Марья Игнатьевна в ночь убийства мужа проснулась пред рассветом, хватилась его и пришла в неописанное волнение, не видя его подле себя. С ней ночевала нанятая тогда Ариной Прохоровной прислужница. Та никак не могла ее успокоить и, чуть лишь стало светать, побежала за самой Ариной Прохоровной, уверив больную, что та знает, где ее муж и когда он воротится. Между тем и Арина Прохоровна находилась тоже в некоторой заботе: она уже узнала от своего мужа о ночном подвиге в Скворешниках. Он воротился домой часу уже в одиннадцатом ночи, в ужасном состоянии и виде; ломая руки, бросился ничком на кровать и всё повторял, сотрясаясь от конвульсивных рыданий: «Это не то, не то; это совсем не то!». Разумеется, кончил тем, что признался приступившей к нему Арине Прохоровне во всем — впрочем, только ей одной во всем доме. Та оставила его в постели, строго внушив, что «если хочет хныкать, то ревел бы в подушку, чтоб не слыхали, и что дурак он будет, если завтра покажет какой-нибудь вид». Она-таки призадумалась и тотчас же начала прибираться на всякий случай: лишние бумаги, книги, даже, может быть, прокламации, успела припрятать или истребить дотла. За всем тем рассудила, что собственно ей, ее сестре, тетке, студентке, а может быть, и вислоухому братцу бояться очень-то нечего. Когда к утру прибежала за ней сиделка, она пошла к Марье Игнатьевне не задумавшись,. Ей, впрочем, ужасно хотелось поскорее проведать, верно ли то, что вчера испуганным и безумным шепотом, похожим на бред, сообщил ей супруг о расчетах Петра Степановича, в видах общей пользы, на Кириллова.
Но пришла она к Марье Игнатьевне уже поздно: отправив служанку и оставшись одна, та не вытерпела, встала с постели и, накинув на себя что попало под руку из одежи, кажется очень что-то легкое и к сезону не подходящее, отправилась сама во флигель к Кириллову, соображая, что, может быть, он ей вернее всех сообщит о муже. Можно представить, как подействовало на родильницу то, что она там увидела. Замечательно, что она не прочла предсмертной записки Кириллова, лежавшей на столе, на виду, конечно в испуге проглядев ее вовсе. Она вбежала в свою светелку, схватила младенца и пошла с ним из дома по улице. Утро было сырое, стоял туман. Прохожих в такой глухой улице не встретилось. Она всё бежала, задыхаясь, по холодной и топкой грязи и наконец начала стучаться в дома; в одном доме не отперли, в другом долго не отпирали; она бросила в нетерпении и начала стучаться в третий дом. Это был дом нашего купца Титова. Здесь она наделала большой суматохи, вопила и бессвязно уверяла, что «ее мужа убили». Шатова и отчасти его историю у Титовых несколько знали; поражены были ужасом, что она, по ее словам всего только сутки родивши, бегает в такой одеже и в такой холод по улицам, с едва прикрытым младенцем в руках. Подумали было сначала, что только в бреду, тем более что никак не могли выяснить, кто убит: Кириллов или ее муж? Она, смекнув, что ей не верят, бросилась было бежать дальше, но ее остановили силой, и, говорят, она страшно кричала и билась. Отправились в дом Филиппова, и через два часа самоубийство Кириллов и его предсмертная записка стали известны всему городу. Полиция приступила к родильнице, бывшей еще в памяти; тут-то и оказалось, что она записки Кириллова не читала, а почему именно заключила, что и муж ее убит, — от нее не могли добиться. Она только кричала, что «коли тот убит, так и муж убит; они вместе были!». К полудню она впала в беспамятство, из которого уж и не выходила, И скончалась дня через три. Простуженный ребенок помер еще раньше ее. Арина Прохоровна, не найдя на месте Марьи Игнатьевны и младенца и смекнув, что худо, хотела было бежать домой, но остановилась у ворот и послала сиделку «спросить во флигеле, у господина, не у них ли Марья Игнатьевна и не знает ли он чего о ней?». Посланница воротилась, неистово крича на всю улицу. Убедив ее не кричать и никому не объявлять знаменитым аргументом: «засудят», она улизнула со двора.
Само собою, что ее в то же утро обеспокоили, как бывшую повитуху родильницы; но немногого добились: она очень дельно и хладнокровно рассказала всё, что сама видела и слышала у Шатова, но о случившейся истории отозвалась, что ничего в ней не знает и не понимает.
Можно себе представить, какая по городу поднялась суматоха. Новая «история», опять убийство! Но тут уже было другое: становилось ясно, что есть, действительно есть тайное общество убийц, поджигателей-революционеров, бунтовщиков. Ужасная смерть Лизы, убийство жены Ставрогина, сам Ставрогин, поджог, бал для гувернанток, распущенность вокруг Юлии Михайловны… Даже в исчезновении Степана Трофимовича хотели непременно видеть загадку. Очень, очень шептались про Николая Всеволодовича. К концу дня узнали и об отсутствии Петра Степановича и, странно, о нем менее всего говорили. Но более всего в тот день говорили «о сенаторе». У дома Филиппова почти всё утро стояла толпа. Действительно, начальство было введено в заблуждение запиской Кириллова. Поверили и в убийство Кирилловым Шатова и в самоубийство «убийцы». Впрочем, начальство хоть и потерялось, но не совсем. Слово «парк», например, столь неопределенно помещенное в записке Кириллова, не сбило никого с толку, как рассчитывал Петр Степанович. Полиция тотчас же кинулась в Скворешники, и не по тому одному, что там был парк, которого нигде у нас в другом месте не было, а и по некоторому даже инстинкту, так как все ужасы последних дней или прямо, или отчасти связаны были со Скворешниками. Так по крайней мере я догадываюсь. (Замечу, что Варвара Петровна, рано утром и не зная ни о чем, выехала для поимки Степана Трофимовича). Тело отыскали в пруде в тот же день к вечеру, по некоторым следам; на самом месте убийства найден был картуз Шатова, с чрезвычайным легкомыслием позабытый убийцами. Наглядное и медицинское исследование трупа и некоторые догадки с первого шагу возбудили подозрение, что Кириллов не мог не иметь товарищей. Выяснилось существование шатово-кирилловского тайного общества, связанного с прокламациями. Кто же были эти товарищи? О наших ни об одном в тот день и мысли еще не было. Узнали, что Кириллов жил затворником и до того уединенно, что с ним вместе, как объявлялось в записке, мог квартировать столько дней Федька, которого везде так искали… Главное, томило всех то, что из всей представлявшейся путаницы ничего нельзя было извлечь общего и связующего. Трудно представить, до каких заключений и до какого безначалия мысли дошло бы наконец наше перепуганное до паники общество, если бы вдруг не объяснилось всё разом, на другой же день, благодаря Лямшину.
Он не вынес. С ним случилось то, что даже и Петр Степанович под конец стал предчувствовать. Порученный Толкаченке, а потом Эркелю, он весь следующий день пролежал в постели, по-видимому смирно, отвернувшись к стене и не говоря ни слова, почти не отвечая, если с ним заговаривали. Он ничего, таким образом, не узнал во весь день из происходившего в городе. Но Толкаченке, отлично узнавшему происшедшее, вздумалось к вечеру бросить возложенную на него Петром Степановичем роль при Лямшине и отлучиться из города в уезд, то есть попросту убежать: подлинно, что потеряли рассудок, как напророчил о них о всех Эркель. Замечу кстати, что и Липутин в тот же день исчез из города, еще прежде полудня. Но с этим как-то так произошло, что об исчезновении его узналось начальством лишь только на другой день к вечеру, когда прямо приступили с расспросами к перепуганному его отсутствием, но молчавшему от страха его семейству. Но продолжаю о Лямшине. Лишь только он остался один (Эркель, надеясь на Толкаченку, еще прежде ушел к себе), как тотчас же выбежал из дому и, разумеется, очень скоро узнал о положении дел. Не заходя даже домой, он бросился тоже бежать куда глаза глядят. Но ночь была так темна, а предприятие до того страшное и многотрудное, что, пройдя две-три улицы, он воротился домой и заперся на всю ночь. Кажется, к утру он сделал попытку к самоубийству; но у него не вышло. Просидел он, однако, взаперти почти до полудня и — вдруг побежал к начальству. Говорят, он ползал на коленях, рыдал и визжал, целовал пол, крича, что недостоин целовать даже сапогов стоявших пред ним сановников. Его успокоили и даже обласкали. Допрос тянулся, говорят, часа три. Он объявил всё, всё, рассказал всю подноготную, всё, что знал, все подробности; забегал вперед, спешил признаниями, передавал даже ненужное и без спросу. Оказалось, что он знал довольно и довольно хорошо поставил на вид дело: трагедия с Шатовым и Кирилловым, пожар, смерть Лебядкиных и пр. поступили на план второстепенный. На первый план выступали Петр Степанович, тайное общество, организация, сеть. На вопрос: для чего сделано столько убийств, скандалов и мерзостей? — он с горячею торопливостью ответил, что «для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал; для того, чтобы всех обескуражить и изо всего сделать кашу и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циническое и неверующее, но с бесконечною жаждой какой-нибудь руководящей мысли и самосохранения, — вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта и опираясь на целую сеть пятерок, тем временем действовавших, вербовавших и изыскивавших практически все приемы и все слабые места, за которые можно ухватиться». Заключил он, что здесь, в нашем городе, устроена была Петром Степановичем лишь первая проба такого систематического беспорядка, так сказать программа дальнейших действий, и даже для всех пятерок, — и что это уже собственно его (Лямшина) мысль, его догадка и «чтобы непременно попомнили и чтобы всё это поставили на вид, до какой степени он откровенно и благонравно разъясняет дело и, стало быть, очень может пригодиться даже и впредь для услуг начальства». На положительный вопрос: много ли пятерок? — отвечал, что бесконечное множество, что вся Россия покрыта сетью, и хотя не представил доказательств, но, думаю, отвечал совершенно искренно. Представил только печатную программу общества, заграничной печати, и проект развития системы дальнейших действий, написанный хотя и начерно, но собственною рукой Петра Степановича. Оказалось, что о «потрясении основ» Лямшин буквально цитовал по этой бумажке, не забыв даже точек и запятых, хотя и уверял, что это его только собственное соображение. Про Юлию Михайловну он удивительно смешно и даже без спросу, а забегая вперед, выразился, что «она невинна и что ее только одурачили». Но замечательно, что Николая Ставрогина он совершенно выгородил из всякого участия в тайном обществе, из всякого соглашения с Петром Степановичем. (О заветных и весьма смешных надеждах Петра Степановича на Ставрогина Лямшин не имел никакого понятия). Смерть Лебядкиных, по словам его, была устроена лишь одним Петром Степановичем, без всякого участия Николая Всеволодовича, с хитрою целью втянуть того в преступление и, стало быть, в зависимость от Петра Степановича; но вместо благодарности, на которую несомненно и легкомысленно рассчитывал, Петр Степанович возбудил лишь полное негодование и даже отчаяние в «благородном» Николае Всеволодовиче. Закончил он о Ставрогине, тоже спеша и без спросу, видимо нарочным намеком, что тот чуть ли не чрезвычайно важная птица, но что в этом какой-то секрет; что проживал он у нас, так сказать, incognito, что он с поручениями и что очень возможно, что и опять пожалует к нам из Петербурга (Лямшин уверен был, что Ставрогин в Петербурге), но только уже совершенно в другом виде и в другой обстановке и в свите таких лиц, о которых, может быть, скоро и у нас услышат, и что всё это он слышал от Петра Степановича, «тайного врага Николая Всеволодовича».
Сделаю нотабене. Два месяца спустя Лямшин сознался, что выгораживал тогда Ставрогина нарочно, надеясь на протекцию Ставрогина и на то, что тот в Петербурге выхлопочет ему облегчение двумя степенями, а в ссылку снабдит деньгами и рекомендательными письмами. Из этого признания видно, что он имел действительно чрезмерно преувеличенное понятие о Николае Ставрогине.
В тот же день, разумеется, арестовали и Виргинского, а сгоряча и весь дом. (Арина Прохоровна, ее сестра, тетка и даже студентка теперь давно уже на воле; говорят даже, что и Шигалев будто бы непременно будет выпущен в самом скором времени, так как ни под одну категорию обвиняемых не подходит; впрочем, это все еще только разговор). Виргинский сразу и во всем повинился: он лежал больной и был в жару, когда его арестовали. Говорят, он почти обрадовался: «С сердца свалилось», — проговорил он будто бы. Слышно про него, что он дает теперь показания откровенно, но с некоторым даже достоинством и не отступает ни от одной из «светлых надежд» своих, проклиная в то же время политический путь (в противоположность социальному), на который был увлечен так нечаянно и легкомысленно «вихрем сошедшихся обстоятельств». Поведение его при совершении убийства разъясняется в смягчающем для него смысле, кажется и он тоже может рассчитывать на некоторое смягчение своей участи. Так по крайней мере у нас утверждают.
Но вряд ли возможно будет облегчить судьбу Эркеля. Этот с самого ареста своего всё молчит или по возможности извращает правду. Ни одного слова раскаяния до сих пор от него не добились. А между тем он даже в самых строгих судьях возбудил к себе некоторую симпатию — своею молодостью, своею беззащитностью, явным свидетельством, что он только фанатическая жертва политического обольстителя; а более всего обнаружившимся поведением его с матерью, которой он отсылал чуть не половину своего незначительного жалованья. Мать его теперь у нас; это слабая и больная женщина, старушка не по летам; она плачет и буквально валяется в ногах, выпрашивая за сына. Что-то будет, но Эркеля у нас многие жалеют.
Липутина арестовали уже в Петербурге, где он прожил целых две недели. С ним случилось почти невероятное дело, которое даже трудно и объяснить. Говорят, он имел и паспорт на чужое имя, и полную возможность успеть улизнуть за границу, и весьма значительные деньги с собой, а между тем остался в Петербурге и никуда не поехал. Некоторое время он разыскивал Ставрогина и Петра Степановича и вдруг запил и стал развратничать безо всякой меры, как человек, совершенно потерявший всякий здравый смысл и понятие о своем положении. Его и арестовали в Петербурге где-то в доме терпимости и нетрезвого. Носится слух, что теперь он вовсе не теряет духа, в показаниях своих лжет и готовится к предстоящему суду с некоторою торжественностью и надеждою (?). Он намерен даже поговорить на суде. Толкаченко, арестованный где-то в уезде, дней десять спустя после своего бегства, ведет себя несравненно учтивее, не лжет, не виляет, говорит всё, что знает, себя не оправдывает, винится со всею скромностию, но тоже наклонен по-краснобайничать; много и с охотою говорит, а когда дело дойдет до знания народа и революционных (?) его элементов, то даже позирует и жаждет эффекта. Он тоже, слышно, намерен поговорить на суде. Вообще он и Липутин не очень испуганы, и это даже странно.
Повторяю, дело это еще не кончено. Теперь, три месяца спустя, общество наше отдохнуло, оправилось, отгулялось, имеет собственное мнение и до того, что даже самого Петра Степановича иные считают чуть не за гения, по крайней мере «с гениальными способностями». «Организация-с!» — говорят в клубе, подымая палец кверху. Впрочем, всё это очень невинно, да и немногие говорят-то. Другие, напротив, не отрицают в нем остроты способностей, но при совершенном незнании действительности, при страшной отвлеченности, при уродливом и тупом развитии в одну сторону, с чрезвычайным происходящим от того легкомыслием. Относительно нравственных его сторон все соглашаются; тут уж никто не спорит.
Право, не знаю, о ком бы еще упомянуть, чтобы не забыть кого. Маврикий Николаевич куда-то совсем уехал. Старуха Дроздова впала в детство… Впрочем, остается рассказать еще одну очень мрачную историю. Ограничусь лишь фактами.
Варвара Петровна по приезде остановилась в городском своем доме. Разом хлынули на нее все накопившиеся известия и потрясли ее ужасно. Она затворилась у себя одна. Был вечер; все устали и рано легли спать.
Поутру горничная передала Дарье Павловне, с таинственным видом, письмо. Это письмо, по ее словам, пришло еще вчера, но поздно, когда все уже почивали, так что она не посмела разбудить. Пришло не по почте, а в Скворешники через неизвестного человека к Алексею Егорычу. А Алексей Егорыч тотчас сам и доставил, вчера вечером, ей в руки, и тотчас же опять уехал в Скворешники.
Дарья Павловна с биением сердца долго смотрела на письмо и не смела распечатать. Она знала от кого: писал Николай Ставрогин. Она прочла надпись на конверте: «Алексею Егорычу с передачею Дарье Павловне, секретно».
Вот это письмо, слово в слово, без исправления малейшей ошибки в слоге русского барича, не совсем доучившегося русской грамоте, несмотря на всю европейскую свою образованность:
«Милая Дарья Павловна,
Вы когда-то захотели ко мне „в сиделки“ и взяли обещание прислать за вами, когда будет надо. Я еду через два дня и не ворочусь. Хотите со мной?
Прошлого года я, как Герцен, записался в граждане кантона Ури, и этого никто не знает. Там я уже купил маленький дом. У меня еще есть двенадцать тысяч рублей; мы поедем и будем там жить вечно. Я не хочу никогда никуда выезжать.
Место очень скучно, ущелье; горы теснят зрение и мысль. Очень мрачное. Я потому, что продавался маленький дом. Если вам не понравится, я продам и куплю другой в другом месте.
Я нездоров, но от галюсинаций надеюсь избавиться с тамошним воздухом. Это физически; а нравственно вы всё знаете; только всё ли?
Я вам рассказал многое из моей жизни. Но не всё. Даже вам не всё! Кстати, подтверждаю, что совестью я виноват в смерти жены. Я с вами не виделся после того, а потому подтверждаю. Виноват и пред Лизаветой Николаевной; но тут вы знаете; тут вы всё почти предсказали.
Лучше не приезжайте. То, что я зову вас к себе, есть ужасная низость. Да и зачем вам хоронить со мной вашу жизнь? Мне вы милы, и мне, в тоске, было хорошо подле вас: при вас при одной я мог вслух говорить о себе. Из этого ничего не следует. Вы определили сами „в сиделки“ — это ваше выражение; к чему столько жертвовать? Вникните тоже, что я вас не жалею, коли, зову, и не уважаю, коли жду. А между тем и зову и жду. Во всяком случае, в вашем ответе нуждаюсь, потому что надо ехать очень скоро. В таком случае уеду один.
Я ничего от Ури не надеюсь; я просто еду. Я не выбирал нарочно угрюмого места. В России я ничем не связан — в ней мне всё так же чужое, как и везде. Правда, я в ней более, чем в другом месте, не любил жить; но даже и в ней ничего не мог возненавидеть!
Я пробовал везде мою силу. Вы мне советовали это, „чтоб узнать себя“. На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказывалась беспредельною. На ваших глазах я снес пощечину от вашего брата; я признался в браке публично. Но к чему приложить эту силу — вот чего никогда не видел, не вижу и теперь, несмотря на ваши ободрения в Швейцарии, которым поверил. Я всё так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие. Но и то и другое чувство по-прежнему всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком несильны; руководить не могут. На бревне можно переплыть реку, а на щепке нет. Это чтобы не подумали вы, что я еду в Ури с какими-нибудь надеждами.
Я по-прежнему никого не виню. Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы; но я не люблю и не хотел разврата. Вы за мной в последнее время следили. Знаете ли, что я смотрел даже на отрицающих наших со злобой, от зависти к их надеждам? Но вы напрасно боялись: я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего. А для смеху, со злобы, тоже не мог, и не потому, чтобы боялся смешного, — я смешного не могу испугаться, — а потому, что все-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило. Но если б имел к ним злобы и зависти больше, то, может, и пошел бы с ними. Судите, до какой степени мне было легко и сколько я метался!
Друг милый, создание нежное и великодушное, которое я угадал! Может быть, вы мечтаете дать мне столько любви и излить на меня столько прекрасного из прекрасной души вашей, что надеетесь тем самым поставить предо мной наконец и цель? Нет, лучше вам быть осторожнее: любовь моя будет так же мелка, как и я сам, а вы несчастны. Ваш брат говорил мне, что тот, кто теряет связи с своею землей, тот теряет и богов своих, то есть все свои цели. Обо всем можно спорить бесконечно, но из меня вылилось одно отрицание, без всякого великодушия и безо всякой силы. Даже отрицания не вылилось. Всё всегда мелко и вяло. Великодушный Кириллов не вынес идеи и — застрелился, но ведь я вижу, что он был великодушен потому, что не в здравом рассудке. Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени, как он. Я даже заняться идеей в той степени не могу. Никогда, никогда я не могу застрелиться!
Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли как подлое насекомое; но я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Я знаю, что это будет еще обман, — последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же пользы себя обмануть, чтобы только сыграть в великодушие? Негодования и стыда во мне никогда быть не может; стало быть, и отчаяния.
Простите, что так много пишу. Я опомнился, и это нечаянно. Этак ста страниц мало и десяти строк довольно. Довольно и десяти строк призыва „в сиделки“.
Я, с тех пор как выехал, живу на шестой станции у смотрителя С ним я сошелся во время кутежа пять лет назад в Петербурге. Что там я живу, никто не знает. Напишите на его имя. Прилагаю адрес.
Дарья Павловна тотчас же пошла и показала письмо Варваре Петровне. Та прочитала и попросила Дашу выйти, чтоб еще одной прочитать; но что-то очень скоро опять позвала ее.
— Поедешь? — спросила она почти робко.
— Поеду, — ответила Даша.
— Собирайся! Едем вместе!
Даша посмотрела вопросительно.
А что мне теперь здесь делать? Не всё ли равно? Я тоже в Ури запишусь и проживу в ущелье… Не беспокойся, не помешаю.
Начали быстро собираться, чтобы поспеть к полуденному поезду. Но не прошло получаса, как явился из Скворешников Алексей Егорыч. Он доложил, что Николай Всеволодович «вдруг» приехали поутру, с ранним поездом, и находятся в Скворешниках, но «в таком виде, что на вопросы не отвечают, прошли по всем комнатам и заперлись на своей половине…».
— Я помимо их приказания заключил приехать и доложить, — прибавил Алексей Егорыч с очень внуши тельным видом.
Варвара Петровна пронзительно поглядела на него и не стала расспрашивать. Мигом подали карету. Поехала с Дашей. Пока ехали, часто, говорят, крестилась.
На «своей половине» все двери были отперты, и нигде Николая Всеволодовича не оказалось.
— Уж не в мезонине ли-с? — осторожно произнес Фомушка.
Замечательно, что следом за Варварой Петровной на «свою половину» вошло несколько слуг; а остальные слуги все ждали в зале. Никогда бы они не посмели прежде позволить себе такого нарушения этикета. Варвара Петровна видела и молчала.
Взобрались и в мезонин. Там было три комнаты; но ни в одной никого не нашли.
— Да уж не туда ли пошли-с? — указал кто-то на дверь в светелку. В самом деле, всегда затворенная дверца в светелку была теперь отперта и стояла настежь. Подыматься приходилось чуть не под крышу по деревянной, длинной, очень узенькой и ужасно крутой лестнице. Там была тоже какая-то комнатка.
— Я не пойду туда. С какой стати он полезет туда? — ужасно побледнела Варвара Петровна, озираясь на слуг. Те смотрели на нее и молчали. Даша дрожала.
Варвара Петровна бросилась по лесенке; Даша за нею; но едва вошла в светелку, закричала и упала без чувств.
Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: «Никого не винить, я сам». Тут же на столике лежал и молоток, кусок мыла и большой гвоздь, очевидно припасенный про запас. Крепкий шелковый снурок, очевидно заранее припасенный и выбранный, на котором повесился Николай Всеволодович, был жирно намылен. Всё означало преднамеренность и сознание до последней минуты.
Наши медики по вскрытии трупа совершенно и настойчиво отвергли помешательство.