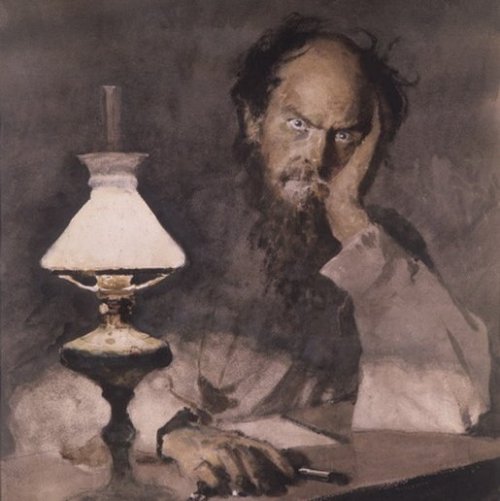Роман Достоевского «Бесы»: Часть 2. Глава 4. Все в ожидании

I
Впечатление, произведенное во всем нашем обществе быстро огласившеюся историей поединка, было особенно замечательно тем единодушием, с которым все поспешили заявить себя безусловно за Николая Всеволодовича. Многие из бывших врагов его решительно объявили себя его друзьями. Главною причиной такого неожиданного переворота в общественном мнении было несколько слов, необыкновенно метко высказанных вслух одною особой, доселе не высказывавшеюся, и разом придавших событию значение, чрезвычайно заинтересовавшее наше крупное большинство. Случилось это так: как раз на другой же день после события у супруги предводителя дворянства нашей губернии, в тот день именинницы, собрался весь город. Присутствовала или, вернее, первенствовала и Юлия Михайловна, прибывшая с Лизаветой Николаевной, сиявшею красотой и особенною веселостью, что многим из наших дам на этот раз тотчас же показалось особенно подозрительным. Кстати сказать: в помолвке ее с Маврикием Николаевичем не могло уже быть никакого сомнения. На шутливый вопрос одного отставного, но важного генерала, о котором речь ниже, Лизавета Николаевна сама прямо в тот вечер ответила, что она невеста. И что же? Ни одна решительно из наших дам этой помолвке не хотела верить. Все упорно продолжали предполагать какой-то роман, какую-то роковую семейную тайну, совершившуюся в Швейцарии, и почему-то с непременным участием Юлии Михайловны. Трудно сказать, почему так упорно держались все эти слухи или, так сказать, даже мечты и почему именно так непременно приплетали тут Юлию Михайловну. Только что она вошла, все обратились к ней со странными взглядами, преисполненными ожиданий. Надо заметить, что по недавности события и по некоторым обстоятельствам, сопровождавшим его, на вечере о нем говорили еще с некоторою осторожностию, не вслух. К тому же ничего еще не знали о распоряжениях власти. Оба дуэлиста, сколько известно, обеспокоены не были. Все знали, например, что Артемий Павлович рано утром отправился к себе в Духово, без всякой помехи. Между тем все, разумеется, жаждали, чтобы кто-нибудь заговорил вслух первый и тем отворил бы дверь общественному нетерпению. Именно надеялись на вышеупомянутого генерала, и не ошиблись.
Этот генерал, один из самых осанистых членов нашего клуба, помещик не очень богатый, но с бесподобнейшим образом мыслей, старомодный волокита за барышнями, чрезвычайно любил, между прочим, в больших собраниях заговаривать вслух, с генеральскою вескостью, именно о том, о чем все еще говорили осторожным шепотом. В этом состояла его как бы, так сказать, специальная роль в нашем обществе. При этом он особенно растягивал и сладко выговаривал слова, вероятно заимствовав эту привычку у путешествующих за границей русских или у тех прежде богатых русских помещиков, которые наиболее разорились после крестьянской реформы. Степан Трофимович даже заметил однажды, что чем более помещик разорился, тем слаще он подсюсюкивает и растягивает слова. Он и сам, впрочем, сладко растягивал и подсюсюкивал, но не замечал этого за собой.
Генерал заговорил как человек компетентный. Кроме того, что с Артемием Павловичем он состоял как-то в дальней родне, хотя в ссоре и даже в тяжбе, он, сверх того, когда-то сам имел два поединка и даже за один из них сослан был на Кавказ в рядовые. Кто-то упомянул о Варваре Петровне, начавшей уже второй день выезжать «после болезни», и не собственно о ней, а о превосходном подборе ее каретной серой четверни, собственного ставрогинского завода. Генерал вдруг заметил, что он встретил сегодня «молодого Ставрогина» верхом… Все тотчас смолкли. Генерал почмокал губами и вдруг провозгласил, вертя между пальцами золотую, жалованную табатерку:
— Сожалею, что меня не было тут несколько лет назад… то есть я был в Карлсбаде… Гм. Меня очень интересует этот молодой человек, о котором я так много застал тогда всяких слухов. Гм. А что, правда, что он помешан? Тогда кто-то говорил. Вдруг слышу, что его оскорбляет здесь какой-то студент, в присутствии кузин, и он полез от него под стол; а вчера слышу от Степана Высоцкого, что Ставрогин дрался с этим… Гагановым. И единственно с галантною целью подставить свой лоб человеку взбесившемуся; чтобы только от него отвязаться. Гм. Это в нравах гвардии двадцатых годов. Бывает он здесь у кого-нибудь?
Генерал замолчал, как бы ожидая ответа. Дверь общественному нетерпению была отперта.
— Чего же проще? — возвысила вдруг голос Юлия Михайловна, раздраженная тем, что все вдруг точно по команде обратили на нее свои взгляды. — Разве возможно удивление, что Ставрогин дрался с Гагановым и не отвечал студенту? Не мог же он вызвать на поединок бывшего крепостного своего человека!
Слова знаменательные! Простая и ясная мысль, но никому, однако, не приходившая до сих пор в голову. Слова, имевшие необыкновенные последствия. Всё скандальное и сплетническое, всё мелкое и анекдотическое разом отодвинуто было на задний план; выдвигалось другое значение. Объявлялось лицо новое, в котором все ошиблись, лицо почти с идеальною строгостью понятий. Оскорбленный насмерть студентом, то есть человеком образованным и уже не крепостным, он презирает обиду, потому что оскорбитель — бывший крепостной его человек. В обществе шум и сплетни; легкомысленное общество с презрением смотрит на человека, битого по лицу; он презирает мнением общества, не доросшего до настоящих понятий, а между тем о них толкующего.
— А между тем мы с вами, Иван Александрович, сидим и толкуем о правых понятиях-с, — с благородным азартом самообличения замечает один клубный старичок другому.
— Да-с, Петр Михайлович, да-с, — с наслаждением поддакивает другой, — вот и говорите про молодежь.
— Тут не молодежь, Иван Александрович, — замечает подвернувшийся третий, — тут не о молодежи вопрос; тут звезда-с, а не какой-нибудь один из молодежи; вот как понимать это надо.
— А нам того и надобно; оскудели в людях.
Тут главное состояло в том, что «новый человек», кроме того что оказался «несомненным дворянином», был вдобавок и богатейшим землевладельцем губернии, а стало быть, не мог не явиться подмогой и деятелем. Я, впрочем, упоминал и прежде вскользь о настроении наших землевладельцев.
Входили даже в азарт:
— Он мало того что не вызвал студента, он взял руки назад, заметьте это особенно, ваше превосходительство, — выставлял один.
— И в новый суд его не потащил-с, — подбавлял другой.
— Несмотря на то что в новом суде ему за дворянскую личную обиду пятнадцать рублей присудили бы-с, хе-хе-хе!
— Нет, это я вам скажу тайну новых судов, — приходил в исступление третий. — Если кто своровал или смошенничал, явно пойман и уличен — беги скорей домой, пока время, и убей свою мать. Мигом во всем оправдают, и дамы с эстрады будут махать батистовыми платочками; несомненная истина!
— Истина, истина!
Нельзя было и без анекдотов. Вспомнили о связях Николая Всеволодовича с графом К. Строгие, уединенные мнения графа К. насчет последних реформ были известны. Известна была и его замечательная деятельность, несколько приостановленная в самое последнее время. И вот вдруг стало всем несомненно, что Николай Всеволодович помолвлен с одною из дочерей графа К., хотя ничто не подавало точного повода к такому слуху. А что касается до каких-то чудесных швейцарских приключений и Лизаветы Николаевны, то даже дамы перестали о них упоминать. Упомянем кстати, что Дроздовы как раз к этому времени успели сделать все доселе упущенные ими визиты. Лизавету Николаевну уже несомненно все нашли самою обыкновенною девушкой, «франтящею» своими больными нервами. Обморок ее в день приезда Николая Всеволодовича объяснили теперь просто испугом при безобразном поступке студента. Даже усиливали прозаичность того самого, чему прежде так стремились придать какой-то фантастический колорит; а об какой-то хромоножке забыли окончательно; стыдились и помнить. «Да хоть бы и сто хромоножек, — кто молод не был!». Ставили на вид почтительность Николая Всеволодовича к матери, подыскивали ему разные добродетели, с благодушием говорили об его учености, приобретенной в четыре года по немецким университетам. Поступок Артемия Павловича окончательно объявили бестактным: «своя своих не познаша»; за Юлией же Михайловной окончательно признали высшую проницательность.
Таким образом, когда наконец появился сам Николай Всеволодович, все встретили его с самою наивною серьезностью, во всех глазах, на него устремленных, читались самые нетерпеливые ожидания. Николай Всеволодович тотчас же заключился в самое строгое молчание, чем, разумеется, удовлетворил всех гораздо более, чем если бы наговорил с три короба. Одним словом, всё ему удавалось, он был в моде. В обществе в губернском если кто раз появился, то уж спрятаться никак нельзя. Николай Всеволодович стал по-прежнему исполнять все губернские порядки до утонченности. Веселым его не находили: «Человек претерпел, человек не то, что другие; есть о чем и задуматься». Даже гордость и та брезгливая неприступность, за которую так ненавидели его у нас четыре года назад, теперь уважались и нравились.
Всех более торжествовала Варвара Петровна. Не могу сказать, очень ли тужила она о разрушившихся мечтах насчет Лизаветы Николаевны. Тут помогла, конечно, и фамильная гордость. Странно одно: Варвара Петровна в высшей степени вдруг уверовала, что Nicolas действительно «выбрал» у графа К., но, и что страннее всего, уверовала по слухам, пришедшим к ней, как и ко всем, по ветру; сама же боялась прямо спросить Николая Всеволодовича. Раза два-три, однако, не утерпела и весело исподтишка попрекнула его, что он с нею не так откровенен; Николай Всеволодович улыбался и продолжал молчать. Молчание принимаемо было за знак согласия. И что же: при всем этом она никогда не забывала о хромоножке. Мысль о ней лежала на ее сердце камнем, кошмаром, мучила ее странными привидениями и гаданиями, и все это совместно и одновременно с мечтами о дочерях графа К. Но об этом еще речь впереди. Разумеется, в обществе к Варваре Петровне стали вновь относиться с чрезвычайным и предупредительным почтением, но она мало им пользовалась и выезжала чрезвычайно редко.
Она сделала, однако, торжественный визит губернаторше. Разумеется, никто более ее не был пленен и очарован вышеприведенными знаменательными словами Юлии Михайловны на вечере у предводительши: они много сняли тоски с ее сердца и разом разрешили многое из того, что так мучило ее с того несчастного воскресенья. «Я не понимала эту женщину!» — изрекла она и прямо, с свойственною ей стремительностью, объявила Юлии Михайловне, что приехала ее благодарить. Юлия Михайловна была польщена, но выдержала себя независимо. Она в ту пору уже очень начала себе чувствовать цену, даже, может быть, немного и слишком. Она объявила, например, среди разговора, что никогда ничего не слыхивала о деятельности и учености Степана Трофимовича.
— Я, конечно, принимаю и ласкаю молодого Верховенского. Он безрассуден, но он еще молод; впрочем, с солидными знаниями. Но всё же это не какой-нибудь отставной бывший критик.
Варвара Петровна тотчас же поспешила заметить, что Степан Трофимович вовсе никогда не был критиком, а, напротив, всю жизнь прожил в ее доме. Знаменит же обстоятельствами первоначальной своей карьеры, «слишком известными всему свету», а в самое последнее время — своими трудами по испанской истории; хочет тоже писать о положении теперешних немецких университетов и, кажется, еще что-то о дрезденской Мадонне. Одним словом, Варвара Петровна не захотела уступить Юлии Михайловне Степана Трофимовича.
— О дрезденской Мадонне? Это о Сикстинской? Chère Варвара Петровна, я просидела два часа пред этою картиной и ушла разочарованная. Я ничего не поняла и была в большом удивлении. Кармазинов тоже говорит, что трудно понять. Теперь все ничего не находят, и русские и англичане. Всю эту славу старики прокричали.
— Новая мода, значит?
— А я так думаю, что не надо пренебрегать и нашею молодежью. Кричат, что они коммунисты, а по-моему, надо щадить их и дорожить ими. Я читаю теперь всё — все газеты, коммуны, естественные науки, — всё получаю, потому что надо же наконец знать, где живешь и с кем имеешь дело. Нельзя же всю жизнь прожить на верхах своей фантазии. Я сделала вывод и приняла за правило ласкать молодежь и тем самым удерживать ее на краю. Поверьте, Варвара Петровна, что только мы, общество, благотворным влиянием и именно лаской можем удержать их у бездны, в которую толкает их нетерпимость всех этих старикашек. Впрочем, я рада, что узнала от вас о Степане Трофимовиче. Вы подаете мне мысль: он может быть полезен на нашем литературном чтении. Я, знаете, устраиваю целый день увеселений, по подписке, в пользу бедных гувернанток из нашей губернии. Они рассеяны по России; их насчитывают до шести из одного нашего уезда; кроме того, две телеграфистки, две учатся в академии, остальные желали бы, но не имеют средств. Жребий русской женщины ужасен, Варвара Петровна! Из этого делают теперь университетский вопрос, и даже было заседание государственного совета. В нашей странной России можно делать всё, что угодно. А потому опять-таки лишь одною лаской и непосредственным теплым участием всего общества мы могли бы направить это великое общее дело на истинный путь. О боже, много ли у нас светлых личностей! Конечно, есть, но они рассеяны. Сомкнемтесь же и будем сильнее. Одним словом, у меня будет сначала литературное утро, потом легкий завтрак, потом перерыв и в тот же день вечером бал. Мы хотели начать вечер живыми картинами, но, кажется, много издержек, и потому для публики будут одна или две кадрили в масках и характерных костюмах, изображающих известные литературные направления. Эту шутливую мысль предложил Кармазинов; он много мне помогает. Знаете, он прочтет у нас свою последнюю вещь, еще никому не известную. Он бросает перо и более писать не будет; эта последняя статья есть его прощание с публикой. Прелестная вещица под названием: «merci». Название французское, но он находит это шутливее и даже тоньше. Я тоже, даже я и присоветовала. Я думаю, Степан Трофимович мог бы тоже прочесть, если покороче и… не так чтоб очень ученое. Кажется, Петр Степанович и еще кто-то что-то такое прочтут. Петр Степанович к вам забежит и сообщит программу; или, лучше, позвольте мне самой завезти к вам.
— А вы позвольте и мне подписаться на вашем листе. Я передам Степану Трофимовичу и сама буду просить его.
Варвара Петровна воротилась домой окончательно привороженная; она стояла горой за Юлию Михайловну и почему-то уже совсем рассердилась на Степана Трофимовича; а тот, бедный, и не знал ничего, сидя дома.
— Я влюблена в нее, я не понимаю, как я могла так ошибаться в этой женщине, — говорила она Николаю Всеволодовичу и забежавшему к вечеру Петру Степановичу.
— А все-таки вам надо помириться со стариком, — доложил Петр Степанович, — он в отчаянии. Вы его совсем сослали на кухню. Вчера он встретил вашу коляску, поклонился, а вы отвернулись. Знаете, мы его выдвинем; у меня на него кой-какие расчеты, и он еще может быть полезен.
— О, он будет читать.
— Я не про одно это. А я и сам хотел к нему сегодня забежать. Так сообщить ему?
— Если хотите. Не знаю, впрочем, как вы это устроите, — проговорила она в нерешимости. — Я была намерена сама объясниться с ним и хотела назначить день и место. — Она сильно нахмурилась.
— Ну, уж назначать день не стоит. Я просто передам.
— Пожалуй, передайте. Впрочем, прибавьте, что я непременно назначу ему день. Непременно прибавьте.
Петр Степанович побежал, ухмыляясь. Вообще, сколько припомню, он в это время был как-то особенно зол и даже позволял себе чрезвычайно нетерпеливые выходки чуть не со всеми. Странно, что ему как-то все прощали. Вообще установилось мнение, что смотреть на него надо как-то особенно. Замечу, что он с чрезвычайною злобой отнесся к поединку Николая Всеволодовича. Его это застало врасплох; он даже позеленел, когда ему рассказали. Тут, может быть, страдало его самолюбие: он узнал на другой лишь день, когда всем было известно.
— А ведь вы не имели права драться, — шепнул он Ставрогину на пятый уже день, случайно встретясь с ним в клубе. Замечательно, что в эти пять дней они нигде не встречались, хотя к Варваре Петровне Петр Степанович забегал почти ежедневно.
Николай Всеволодович молча поглядел на него с рассеянным видом, как бы не понимая, в чем дело, и прошел не останавливаясь. Он проходил чрез большую залу клуба в буфет.
— Вы и к Шатову заходили… вы Марью Тимофеевну хотите опубликовать, — бежал он за ним и как-то в рассеянности ухватился за его плечо.
Николай Всеволодович вдруг стряс с себя его руку и быстро к нему оборотился, грозно нахмурившись. Петр Степанович поглядел на него, улыбаясь странною, длинною улыбкой. Всё продолжалось одно мгновение. Николай Всеволодович прошел далее.
II
К старику он забежал тотчас же от Варвары Петровны, и если так поспешил, то единственно из злобы, чтоб отмстить за одну прежнюю обиду, о которой я доселе не имел понятия. Дело в том, что в последнее их свидание, именно на прошлой неделе в четверг, Степан Трофимович, сам, впрочем, начавший спор, кончил тем, что выгнал Петра Степановича палкой. Факт этот он от меня тогда утаил; но теперь, только что вбежал Петр Степанович, с своею всегдашнею усмешкой, столь наивно высокомерною, и с неприятно любопытным, шныряющим по углам взглядом, как тотчас же Степан Трофимович сделал мне тайный знак, чтоб я не оставлял комнату. Таким образом и обнаружились предо мною их настоящие отношения, ибо на этот раз прослушал весь разговор.
Степан Трофимович сидел, протянувшись на кушетке. С того четверга он похудел и пожелтел. Петр Степанович с самым фамильярным видом уселся подле него, бесцеремонно поджав под себя ноги, и занял на кушетке гораздо более места, чем сколько требовало уважение к отцу. Степан Трофимович молча и с достоинством посторонился.
На столе лежала раскрытая книга. Это был роман «Что делать?». Увы, я должен признаться в одном странном малодушии нашего друга: мечта о том, что ему следует выйти из уединения и задать последнюю битву, всё более и более одерживала верх в его соблазненном воображении. Я догадался, что он достал и изучает роман единственно с тою целью, чтобы в случае несомненного столкновения с «визжавшими» знать заранее их приемы и аргументы по самому их «катехизису» и, таким образом приготовившись, торжественно их всех опровергнуть в ее глазах. О, как мучила его эта книга! Он бросал иногда ее в отчаянии и, вскочив с места, шагал по комнате почти в исступлении.
— Я согласен, что основная идея автора верна, — говорил он мне в лихорадке, — но ведь тем ужаснее! Та же наша идея, именно наша; мы, мы первые насадили ее, возрастили, приготовили, — да и что бы они могли сказать сами нового, после нас! Но, боже, как всё это выражено, искажено, исковеркано! — восклицал он, стуча пальцами по книге. — К таким ли выводам мы устремлялись? Кто может узнать тут первоначальную мысль?
— Просвещаешься? — ухмыльнулся Петр Степанович, взяв книгу со стола и прочтя заглавие. — Давно пора. Я тебе и получше принесу, если хочешь.
Степан Трофимович снова и с достоинством промолчал. Я сидел в углу на диване.
Петр Степанович быстро объяснил причину своего прибытия. Разумеется, Степан Трофимович был поражен не в меру и слушал в испуге, смешанном с чрезвычайным негодованием.
— И эта Юлия Михайловна рассчитывает, что я приду к ней читать!
— То есть они ведь вовсе в тебе не так нуждаются. Напротив, это чтобы тебя обласкать и тем подлизаться к Варваре Петровне. Но, уж само собою, ты не посмеешь отказаться читать. Да и самому-то, я думаю, хочется, — ухмыльнулся он, — у вас у всех, у старичья, адская амбиция. Но послушай, однако, надо, чтобы не так скучно. У тебя там что, испанская история, что ли? Ты мне дня за три дай просмотреть, а то ведь усыпишь, пожалуй.
Торопливая и слишком обнаженная грубость этих колкостей была явно преднамеренная. Делался вид, что со Степаном Трофимовичем как будто и нельзя говорить другим, более тонким языком и понятиями. Степан Трофимович твердо продолжал не замечать оскорблений. Но сообщаемые события производили на него всё более и более потрясающее впечатление.
— И она сама, сама велела передать это мне через... вас? — спросил он бледнея.
— То есть, видишь ли, она хочет назначить тебе день и место для взаимного объяснения; остатки вашего сентиментальничанья. Ты с нею двадцать лет кокетничал и приучил ее к самым смешным приемам. Но не беспокойся, теперь уж совсем не то; она сама поминутно говорит, что теперь только начала «презирать». Я ей прямо растолковал, что вся эта ваша дружба есть одно только взаимное излияние помой. Она мне много, брат, рассказала; фу, какую лакейскую должность исполнял ты всё время. Да же я краснел за тебя.
— Я исполнял лакейскую должность? — не выдержал Степан Трофимович.
— Хуже, ты был приживальщиком, то есть лакеем добровольным. Лень трудиться, а на денежки-то у нас аппетит. Всё это и она теперь понимает; по крайней мере ужас, что про тебя рассказала. Ну, брат, как я хохотал над твоими письмами к ней; совестно и гадко. Но ведь вы так развращены, так развращены! В милостыне есть нечто навсегда развращающее — ты явный пример!
— Она тебе показывала мои письма!
— Все. То есть, конечно, где же их прочитать? Фу, сколько ты исписал бумаги, я думаю, там более двух тысяч писем… А знаешь, старик, я думаю, у вас было одно мгновение, когда она готова была бы за тебя выйти? Глупейшим ты образом упустил! Я, конечно, говорю с твоей точки зрения, но все-таки ж лучше, чем теперь, когда чуть не сосватали на «чужих грехах», как шута для потехи, за деньги
— За деньги! Она, она говорит, что за деньги! — болезненно возопил Степан Трофимович.
— А то как же? Да что ты, я же тебя и защищал. Ведь это единственный твой путь оправдания. Она сама поняла, что тебе денег надо было, как и всякому, и что ты с этой точки, пожалуй, и прав. Я ей доказал, как дважды два, что вы жили на взаимных выгодах: она капиталисткой, а ты при ней сентиментальным шутом. Впрочем, за деньги она не сердится, хоть ты ее и доил, как козу. Ее только злоба берет, что она тебе двадцать лет верила, что ты ее так облапошил на благородстве и заставил так долго лгать. В том, что сама лгала, она никогда не сознается, но за это-то тебе и достанется вдвое. Не понимаю, как ты не догадался, что тебе придется когда-нибудь рассчитаться. Ведь был же у тебя хоть какой-нибудь ум. Я вчера посоветовал ей отдать тебя в богадельню, успокойся, в приличную, обидно не будет; она, кажется, так и сделает. Помнишь последнее письмо твое ко мне в X — скую губернию, три недели назад?
— Неужели ты ей показал? — в ужасе вскочил Степан Трофимович.
— Ну еще же бы нет! Первым делом. То самое, в котором ты уведомлял, что она тебя эксплуатирует, завидуя твоему таланту, ну и там об «чужих грехах». Ну, брат, кстати, какое, однако, у тебя самолюбие! Я так хохотал. Вообще твои письма прескучные; у тебя ужасный слог. Я их часто совсем не читал, а одно так и теперь валяется у меня нераспечатанным; я тебе завтра пришлю. Но это, это последнее твое письмо — это верх совершенства! Как я хохотал, как хохотал!
— Изверг, изверг! — возопил Степан Трофимович
— Фу, черт, да с тобой нельзя разговаривать. Послушай, ты опять обижаешься, как в прошлый четверг?
Степан Трофимович грозно выпрямился:
— Как ты смеешь говорить со мной таким языком?
— Каким это языком? Простым и ясным?
— Но скажи же мне наконец, изверг, сын ли ты мой или нет?
— Об этом тебе лучше знать. Конечно, всякий отец склонен в этом случае к ослеплению…
— Молчи, молчи! — весь затрясся Степан Трофимович.
— Видишь ли, ты кричишь и бранишься, как и в прошлый четверг, ты свою палку хотел поднять, а ведь я документ-то тогда отыскал. Из любопытства весь вечер в чемодане прошарил. Правда, ничего нет точного, можешь утешиться. Это только записка моей матери к тому полячку. Но, судя по ее характеру…
— Еще слово, и я надаю тебе пощечин.
— Вот люди! — обратился вдруг ко мне Петр Степанович. — Видите, это здесь у нас уже с прошлого четверга. Я рад, что нынче по крайней мере вы здесь и рассудите. Сначала факт: он упрекает, что я говорю так о матери, но не он ли меня натолкнул на то же самое? В Петербурге, когда я был еще гимназистом, не он ли будил меня по два раза в ночь, обнимал меня и плакал, как баба, и как вы думаете, что рассказывал мне по ночам-то? Вот те же скоромные анекдоты про мою мать! От него я от первого и услыхал.
— О, я тогда это в высшем смысле! О, ты не понял меня. Ничего, ничего ты не понял.
— Но все-таки у тебя подлее, чем у меня, ведь подлее, признайся. Ведь видишь ли, если хочешь, мне всё равно. Я с твоей точки. С моей точки зрения, не беспокойся: я мать не виню; ты так ты, поляк так поляк, мне всё равно. Я не виноват, что у вас в Берлине вышло так глупо. Да и могло ли у вас выйти что-нибудь умней. Ну не смешные ли вы люди после всего! И не всё ли тебе равно, твой ли я сын или нет? Послушайте, — обратился он ко мне опять, — он рубля на меня не истратил всю жизнь, до шестнадцати лет меня не знал совсем, потом здесь ограбил, а теперь кричит, что болел обо мне сердцем всю жизнь, и ломается предо мной, как актер. Да ведь я же не Варвара Петровна, помилуй!
Он встал и взял шляпу.
— Проклинаю тебя отсель моим именем! — протянул над ним руку Степан Трофимович, весь бледный как смерть.
— Эк ведь в какую глупость человек въедет! — даже удивился Петр Степанович. — Ну прощай, старина, никогда не приду к тебе больше. Статью доставь раньше, не забудь, и постарайся, если можешь, без вздоров: факты, факты и факты, а главное, короче. Прощай.
III
Впрочем, тут влияли и посторонние поводы. У Петра Степановича действительно были некоторые замыслы на родителя. По-моему, он рассчитывал довести старика до отчаяния и тем натолкнуть его на какой-нибудь явный скандал, в известном роде. Это нужно было ему для целей дальнейших, посторонних, о которых еще речь впереди. Подобных разных расчетов и предначертаний в ту пору накопилось у него чрезвычайное множество, — конечно, почти всё фантастических. Был у него в виду и другой мученик, кроме Степана Трофимовича. Вообще мучеников было у него немало, как и оказалось впоследствии; но на этого он особенно рассчитывал, и это был сам господин фон Лембке.
Андрей Антонович фон Лембке принадлежал к тому фаворизованному (природой) племени, которого в России числится по календарю несколько сот тысяч и которое, может, и само не знает, что составляет в ней всею своею массой один строго организованный союз. И, уж разумеется, союз не предумышленный и не выдуманный, а существующий в целом племени сам по себе, без слов и без договору, как нечто нравственно обязательное, и состоящий во взаимной поддержке всех членов этого племени одного другим всегда, везде и при каких бы то ни было обстоятельствах. Андрей Антонович имел честь воспитываться в одном из тех высших русских учебных заведений, которые наполняются юношеством из более одаренных связями или богатством семейств. Воспитанники этого заведения почти тотчас же по окончании курса назначались к занятию довольно значительных должностей по одному отделу государственной службы. Андрей Антонович имел одного дядю инженер-подполковника, а другого булочника; но в высшую школу протерся и встретил в ней довольно подобных соплеменников. Был он товарищ веселый; учился довольно тупо, но его все полюбили. И когда, уже в высших классах, многие из юношей, преимущественно русских, научились толковать о весьма высоких современных вопросах, и с таким видом, что вот только дождаться выпуска, и они порешат все дела, — Андрей Антонович всё еще продолжал заниматься самыми невинными школьничествами. Он всех смешил, правда выходками весьма нехитрыми, разве лишь циническими, но поставил это себе целью. То как-нибудь удивительно высморкается, когда преподаватель на лекции обратится к нему с вопросом, — чем рассмешит и товарищей и преподавателя; то в дортуаре изобразит из себя какую-нибудь циническую живую картину, при всеобщих рукоплесканиях; то сыграет, единственно на своем носу (и довольно искусно), увертюру из «Фра-Диаволо». Отличался тоже умышленным неряшеством, находя это почему-то остроумным. В самый последний год он стал пописывать русские стишки. Свой собственный племенной язык знал он весьма неграмматически, как и многие в России этого племени. Эта наклонность к стишкам свела его с одним мрачным и как бы забитым чем-то товарищем, сыном какого-то бедного генерала, из русских, и который считался в заведении великим будущим литератором. Тот отнесся к нему покровительственно. Но случилось так, что по выходе из заведения, уже года три спустя, этот мрачный товарищ, бросивший свое служебное поприще для русской литературы и вследствие того уже щеголявший в разорванных сапогах и стучавший зубами от холода, в летнем пальто в глубокую осень, встретил вдруг случайно у Аничкова моста своего бывшего protégé[2] «Лембку», как все, впрочем, называли того в училище. И что же? Он даже не узнал его с первого взгляда и остановился в удивлении. Пред ним стоял безукоризненно одетый молодой человек, с удивительно отделанными бакенбардами рыжеватого отлива, с пенсне, в лакированных сапогах, в самых свежих перчатках, в широком шармеровском пальто и с портфелем под мышкой. Лембке обласкал товарища, сказал ему адрес и позвал к себе когда-нибудь вечерком. Оказалось тоже, что он уже не «Лембка», а фон Лембке. Товарищ к нему, однако, отправился, может быть, единственно из злобы. На лестнице, довольно некрасивой и совсем уже не парадной, но устланной красным сукном, его встретил и опросил швейцар. Звонко прозвенел наверх колокол. Но вместо богатств, которые посетитель ожидал встретить, он нашел своего «Лембку» в боковой очень маленькой комнатке, имевшей темный и ветхий вид, разгороженной надвое большою темно-зеленою занавесью, меблированной хоть и мягкою, но очень ветхою темно-зеленою мебелью, с темно-зелеными сторами на узких и высоких окнах. Фон Лембке помещался у какого-то очень дальнего родственника, протежировавшего его генерала. Он встретил гостя приветливо, был серьезен и изящно вежлив. Поговорили и о литературе, но в приличных пределах. Лакей в белом галстуке принес жидковатого чаю, с маленьким, кругленьким сухим печеньем. Товарищ из злобы попросил зельтерской воды. Ему подали, но с некоторыми задержками, причем Лембке как бы сконфузился, призывая лишний раз лакея и ему приказывая. Впрочем, сам предложил, не хочет ли гость чего закусить, и видимо был доволен, когда тот отказался и наконец ушел. Просто-запросто Лембке начинал свою карьеру, а у единоплеменного, но важного генерала приживал.
Он в то время вздыхал по пятой дочке генерала, и ему, кажется, отвечали взаимностью. Но Амалию все-таки выдали, когда пришло время, за одного старого заводчика-немца, старого товарища старому генералу. Андрей Антонович не очень плакал, а склеил из бумаги театр. Поднимался занавес, выходили актеры, делали жесты руками; в ложах сидела публика, оркестр по машинке водил смычками по скрипкам, капельмейстер махал палочкой, а в партере кавалеры и офицеры хлопали в ладоши. Всё было сделано из бумаги, всё выдумано и сработано самим фон Лембке; он просидел над театром полгода. Генерал устроил нарочно интимный вечерок, театр вынесли напоказ, все пять генеральских дочек с новобрачною Амалией, ее заводчик и многие барышни и барыни со своими немцами внимательно рассматривали и хвалили театр; затем танцевали. Лембке был очень доволен и скоро утешился.
Прошли годы, и карьера его устроилась. Он всё служил по видным местам, и всё под начальством единоплеменников, и дослужился наконец до весьма значительного, сравнительно с его летами, чина. Давно уже он желал жениться и давно уже осторожно высматривал. Втихомолку от начальства послал было повесть в редакцию одного журнала, но ее не напечатали. Зато склеил целый поезд железной дороги, и опять вышла преудачная вещица: публика выходила из вокзала, с чемоданами и саками, с детьми и собачками, и входила в вагоны. Кондукторы и служителя расхаживали, звенел колокольчик, давался сигнал, и поезд трогался в путь. Над этою хитрою штукой он просидел целый год. Но все-таки надо было жениться. Круг знакомств его был довольно обширен, всё больше в немецком мире; но он вращался и в русских сферах, разумеется по начальству. Наконец, когда уже стукнуло ему тридцать восемь лет, он получил и наследство. Умер его дядя, булочник, и оставил ему тринадцать тысяч по завещанию. Дело стало за местом. Господин фон Лембке, несмотря на довольно высокий пошиб своей служебной сферы, был человек очень скромный. Он очень бы удовольствовался каким-нибудь самостоятельным казенным местечком, с зависящим от его распоряжений приемом казенных дров, или чем-нибудь сладеньким в этом роде, и так бы на всю жизнь. Но тут, вместо какой-нибудь ожидаемой Минны или Эрнестины, подвернулась вдруг Юлия Михайловна. Карьера его разом поднялась степенью виднее. Скромный и аккуратный фон Лембке почувствовал, что и он может быть самолюбивым.
У Юлии Михайловны, по старому счету, было двести душ, и, кроме того, с ней являлась большая протекция. С другой стороны, фон Лембке был красив, а ей уже за сорок. Замечательно, что он мало-помалу влюбился в нее и в самом деле, по мере того как всё более и более ощущал себя женихом. В день свадьбы утром послал ей стихи. Ей всё это очень нравилось, даже стихи: сорок лет не шутка. Вскорости он получил известный чин и известный орден, а затем назначен был в нашу губернию.
Собираясь к нам, Юлия Михайловна старательно поработала над супругом. По ее мнению, он был не без способностей, умел войти и показаться, умел глубокомысленно выслушать и промолчать, схватил несколько весьма приличных осанок, даже мог сказать речь, даже имел некоторые обрывки и кончики мыслей, схватил лоск новейшего необходимого либерализма. Но все-таки ее беспокоило, что он как-то уж очень мало восприимчив и, после долгого, вечного искания карьеры, решительно начинал ощущать потребность покоя. Ей хотелось перелить в него свое честолюбие, а он вдруг начал клеить кирку: пастор выходил говорить проповедь, молящиеся слушали, набожно сложив пред собою руки, одна дама утирала платочком слезы, один старичок сморкался; под конец звенел органчик, который нарочно был заказан и уже выписан из Швейцарии, несмотря на издержки. Юлия Михайловна даже с каким-то испугом отобрала всю работу только лишь узнала о ней, и заперла к себе в ящик; взамен того позволила ему писать роман, но потихоньку. С тех пор прямо стала рассчитывать только на одну себя. Беда в том, что тут было порядочное легкомыслие и мало мерки. Судьба слишком уже долго продержала ее в старых девах. Идея за идеей замелькали теперь в ее честолюбивом и несколько раздраженном уме. Она питала замыслы, она решительно хотела управлять губернией, мечтала быть сейчас же окруженною, выбрала направление. Фон Лембке даже несколько испугался, хотя скоро догадался, с своим чиновничьим тактом, что собственно губернаторства пугаться ему вовсе нечего. Первые два, три месяца протекли даже весьма удовлетворительно. Но тут подвернутся Петр Степанович, и стало происходить нечто странное.
Дело в том, что молодой Верховенский с первого шагу обнаружил решительную непочтительность к Андрею Антоновичу и взял над ним какие-то странные права, а Юлия Михайловна, всегда столь ревнивая к значению своего супруга, вовсе не хотела этого замечать; по крайней мере не придавала важности. Молодой человек стал ее фаворитом, ел, пил и почти спал в доме. Фон Лембке стал защищаться, называл его при людях «молодым человеком», покровительственно трепал по плечу, но этим ничего не внушил: Петр Степанович всё как будто смеялся ему в глаза, даже разговаривая, по-видимому, серьезно, а при людях говорил ему самые неожиданные вещи. Однажды, возратясь домой, он нашел молодого человека у себя в кабинете, спящим на диване без приглашения. Тот объяснил, что зашел, но, не застав дома, «кстати выспался». Фон Лембке был обижен и снова пожаловался супруге; осмеяв его раздражительность, та колко заметила, что он сам, видно, не умеет стать на настоящую ногу; по крайней мере с ней «этот мальчик» никогда не позволяет себе фамильярностей, а впрочем, «он наивен и свеж, хотя и вне рамок общества». Фон Лембке надулся. В тот раз она их помирила. Петр Степанович не то чтобы попросил извинения, а отделался какою-то грубою шуткой, которую в другой раз можно было бы принять за новое оскорбление, но в настоящем случае приняли за раскаяние. Слабое место состояло в том, что Андрей Антонович дал маху с самого начала, а именно сообщил ему свой роман. Вообразив в нем пылкого молодого человека с поэзией и давно уже мечтая о слушателе, он еще в первые дни знакомства прочел ему однажды вечером две главы. Тот выслушал, не скрывая скуки, невежливо зевал, ни разу не похвалил, но, уходя, выпросил себе рукопись, чтобы дома на досуге составить мнение, а Андрей Антонович отдал. С тех пор он рукописи не возвращал, хотя и забегал ежедневно, а на вопрос отвечал только смехом; под конец объявил, что потерял ее тогда же на улице. Узнав о том, Юлия Михайловна рассердилась на своего супруга ужасно.
— Уж не сообщил ли ты ему и о кирке? — всполохнулась она чуть не в испуге.
Фон Лембке решительно начал задумываться, а задумываться ему было вредно и запрещено докторами. Кроме того, что оказывалось много хлопот по губернии, о чем скажем ниже, — тут была особая материя, даже страдало сердце, а не то что одно начальническое самолюбие. Вступая в брак, Андрей Антонович ни за что бы не предположил возможности семейных раздоров и столкновений в будущем. Так всю жизнь воображал он, мечтая о Минне и Эрнестине. Он почувствовал, что не в состоянии переносить семейных громов. Юлия Михайловна объяснилась с ним наконец откровенно.
— Сердиться ты на это не можешь, — сказала она, — уже потому, что ты втрое его рассудительнее и неизмеримо выше на общественной лестнице. В этом мальчике еще много остатков прежних вольнодумных замашек, а по-моему, просто шалость; но вдруг нельзя, а надо постепенно. Надо дорожить нашею молодежью; я действую лаской и удерживаю их на краю.
— Но он черт знает что говорит, — возражал фон Лембке. — Я не могу относиться толерантно, когда он при людях и в моем присутствии утверждает, что правительство нарочно опаивает народ водкой, чтоб его абрютировать и тем удержать от восстания. Представь мою роль, когда я принужден при всех это слушать.
Говоря это, фон Лембке припомнил недавний разговор свой с Петром Степановичем. С невинною целию обезоружить его либерализмом, он показал ему свою собственную интимную коллекцию всевозможных прокламаций, русских и из-за границы, которую он тщательно собирал с пятьдесят девятого года, не то что как любитель, а просто из полезного любопытства. Петр Степанович, угадав его цель, грубо выразился, что в одной строчке иных прокламаций более смысла, чем в целой какой-нибудь канцелярии, «не исключая, пожалуй, и вашей».
Лембке покоробило.
— Но это у нас рано, слишком рано, — произнес он почти просительно, указывая на прокламации.
— Нет, не рано; вот вы же боитесь, стало быть, не рано.
— Но, однако же, тут, например, приглашение к разрушению церквей.
— Отчего же и нет? Ведь вы же умный человек и, конечно, сами не веруете, а слишком хорошо понимаете, что вера вам нужна, чтобы народ абрютировать. Правда честнее лжи.
— Согласен, согласен, я с вами совершенно согласен, но это у нас рано, рано… — морщился фон Лембке.
— Так какой же вы после этого чиновник правительства, если сами согласны ломать церкви и идти с дрекольем на Петербург, а всю разницу ставите только в сроке?
Так грубо пойманный, Лембке был сильно пикирован.
— Это не то, не то, — увлекался он, всё более и более раздражаясь в своем самолюбии, — вы, как молодой чело век и, главное, незнакомый с нашими целями, заблуждаетесь. Видите, милейший Петр Степанович, вы называете нас чиновниками от правительства? Так. Самостоятельными чиновниками? Так. Но позвольте, как мы действуем? На нас ответственность, а в результате мы так же служим общему делу, как и вы. Мы только сдерживаем то, что вы расшатываете, и то, что без нас расползлось бы в разные стороны. Мы вам не враги, отнюдь нет, мы вам говорим: идите вперед, прогрессируйте, даже расшатывайте, то есть всё старое, подлежащее переделке; но мы вас, когда надо, и сдержим в необходимых пределах и тем вас же спасем от самих себя, потому что без нас вы бы только расколыхали Россию, лишив ее приличного вида, а наша задача в том и состоит, чтобы заботиться о приличном виде. Проникнитесь, что мы и вы взаимно друг другу необходимы. В Англии виги и тории тоже взаимно друг другу необходимы. Что же: мы тории, а вы виги, я именно так понимаю.
Андрей Антонович вошел даже в пафос. Он любил поговорить умно и либерально еще с самого Петербурга, а тут, главное, никто не подслушивал. Петр Степанович молчал и держал себя как-то не по-обычному серьезно. Это еще более подзадорило оратора.
— Знаете ли, что я, «хозяин губернии», — продолжал он, расхаживая по кабинету, — знаете ли, что я по множеству обязанностей не могу исполнить ни одной, а с другой стороны, могу так же верно сказать, что мне здесь нечего делать. Вся тайна в том, что тут всё зависит от взглядов правительства. Пусть правительство основывает там хоть республику, ну там из политики или для усмирения страстей, а с другой стороны, параллельно, пусть усилит губернаторскую власть, и мы, губернаторы, поглотим республику; да что республику: всё, что хотите, поглотим; я по крайней мере чувствую, что готов… Одним словом, пусть правительство провозгласит мне по телеграфу activité dévorante[3], и я даю activité dévorante. Я здесь прямо в глаза сказал: «Милостивые государи, для уравновешения и процветания всех губернских учреждений необходимо одно: усиление губернаторской власти». Видите, надо, чтобы все эти учреждения — земские ли, судебные ли — жили, так сказать, двойственною жизнью, то есть надобно, чтоб они были (я согласен, что это необходимо), ну, а с другой стороны, надо, чтоб их и не было. Всё судя по взгляду правительства. Выйдет такой стих, что вдруг учреждения окажутся необходимыми, и они тотчас же у меня явятся налицо. Пройдет необходимость, и их никто у меня не отыщет. Вот как я понимаю activité dévorante, а ее не будет без усиления губернаторской власти. Мы с вами глаз на глаз говорим. Я, знаете, уже заявил в Петербурге о небходимости особого часового у дверей губернаторского дома. Жду ответа.
— Вам надо двух, — проговорил Петр Степанович.
— Для чего двух? — остановился пред ним фон Лембке.
— Пожалуй, одного-то мало, чтобы вас уважали. Вам надо непременно двух.
Андрей Антонович скривил лицо.
— Вы… вы бог знает что позволяете себе, Петр Степанович. Пользуясь моей добротой, вы говорите колкости и разыгрываете какого-то bourru bienfaisant[4]…
— Ну это как хотите, — пробормотал Петр Степанович, — а все-таки вы нам прокладываете дорогу и приготовляете наш успех.
— То есть кому же нам и какой успех? — в удивлении уставился на него фон Лембке, но ответа не получил.
Юлия Михайловна, выслушав отчет о разговоре, была очень недовольна.
— Но не могу же я, — защищался фон Лембке, — третировать начальнически твоего фаворита, да еще когда глаз на глаз… Я мог проговориться… от доброго сердца.
— От слишком уж доброго. Я не знала, что у тебя коллекция прокламаций, сделай одолжение, покажи.
— Но… но он их выпросил к себе на один день.
— И вы опять дали! — рассердилась Юлия Михайловна. — Что за бестактность!
— Я сейчас пошлю к нему взять.
— Он не отдаст.
— Я потребую! — вскипел фон Лембке и вскочил да же с места. Кто он, чтобы так его опасаться, и кто я, чтобы не сметь ничего сделать?
— Садитесь и успокойтесь, — остановила Юлия Михайловна, — я отвечу на ваш первый вопрос: он отлично мне зарекомендован, он со способностями и говорит иногда чрезвычайно умные вещи. Кармазинов уверял меня, что он имеет связи почти везде и чрезвычайное влияние на столичную молодежь. А если я через него привлеку их всех и сгруппирую около себя, то я отвлеку их от погибели, указав новую дорогу их честолюбию. Он предан мне всем сердцем и во всем меня слушается.
— Но ведь пока их ласкать, они могут… черт знает что сделать. Конечно, это идея… — смутно защищался фон Лембке, — но… но вот, я слышу, в —ском уезде появились какие-то прокламации.
— Но ведь этот слух был еще летом, — прокламации, фальшивые ассигнации, мало ли что, однако до сих пор не доставили ни одной. Кто вам сказал?
— Я от фон Блюма слышал.
— Ах, избавьте меня от вашего Блюма и никогда не смейте о нем упоминать!
Юлия Михайловна вскипела и даже с минуту не могла говорить. Фон Блюм был чиновником при губернаторской канцелярии, которого она особенно ненавидела. Об этом ниже.
— Пожалуйста, не беспокойся о Верховенском, — заключила она разговор, — если б он участвовал в каких-нибудь шалостях, то не стал бы так говорить, как он с тобою и со всеми здесь говорит. Фразеры не опасны, и даже, я так скажу, случись что-нибудь, я же первая чрез него и узнаю. Он фанатически, фанатически предан мне.
Замечу, предупреждая события, что если бы не самомнение и честолюбие Юлии Михайловны, то, пожалуй, и не было бы всего того, что успели натворить у нас эти дурные людишки. Тут она во многом ответственна!
Примечания
- ↑ Журнал «Русский вестник» (1871, № 1, 2, 4, 7, 9—11, 1872, № 11, 12) с подписью: Ф. М. Достоевский. Отдельным изданием роман вышел в Петербурге в 1873 г.
- ↑ фр. protégé — протеже, т. е. опекаемого, покровительствуемого
- ↑ фр. activité dévorante — бешеную активность
- ↑ фр. bourru bienfaisant — благодетельного грубияна