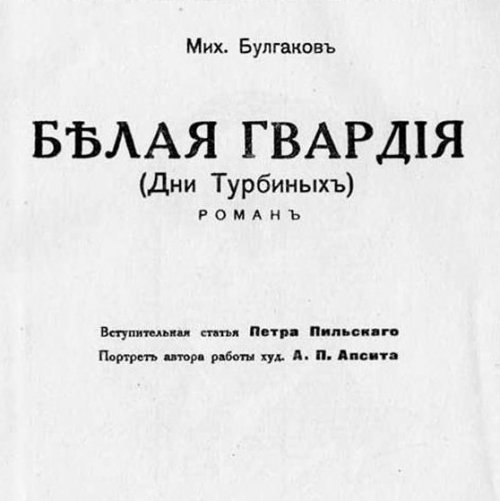- Главная
- Библиотека
- Книги
- Темы
- Литературные произведения по авторам
- Литературные произведения авторов на букву Т
- Творчество Алексея Николаевича Толстого
- Трилогия «Хождение по мукам» А. Н. Толстого
Роман Толстого «Хмурое утро»: Глава 9

Вадим Петрович Рощин проснулся поздно в дрянной гостиничной комнате, с грязным окном, занавешенным пожелтевшей газетой, на коротенькой койке, под тощим одеялом. Поезд уходил поздно ночью. Предстоял пустой день. В папиросной коробке оставалась одна папироса. Он помял ее, закурил и стал смотреть на свою худую, жилистую руку с гусиной кожей. Поиски Кати ни к чему не привели… Кати он не нашел. Отпуск кончился, надо было возвращаться на Кубань в полк.
Через двое суток он вылезет из вагона, сядет в бричку, поедет степью, не заговаривая с нижним чином на козлах. В станице, на широкой улице, колеса брички завязнут в колеях, полных уже бесплодной в ноябре дождевой воды. Он вылезет прямо в грязь, прикажет отнести чемодан в хату и зашагает к станичному управлению, в штаб, к командиру полка, генерал-майору Шведе.
Он застанет этого выхоленного дурака за чтением стишков символистов: «Пламенный круг» Сологуба или «Жемчуга» Гумилева. После рапорта Вадим Петрович примет взвод. Может быть, получит роту. Начнется однообразное: строевые занятия, посещение офицерского собрания, где его будут расспрашивать о девочках, о кутежах, острить по поводу его худобы, седых волос и мрачного вида. По вечерам — шаганье из угла в угол у себя в хате. В десять часов денщик молча стащит с него сапоги… Это — одна вероятность, а другая — если полк на фронте, в боях…
Ему представилась та же мертвая степь с грядами северных туч, печные трубы среди пожарища, завязшие в грязи телеги с ранеными, дохлые лошади и — крайняя черта этой степи: окоп с людьми, валяющимися среди кала и окровавленных тряпок… Он представил себя профессиональным бодряком, легендарным фаталистом, показывающим пример холодной ненависти, которой у него нет, которой у него давно больше нет. В нем только брезгливость и тошнота при мысли о людях.
Он приподнялся на койке, стараясь застегнуть пуговку на сорочке, потянулся в поисках табаку за штанами, свалившимися на пол, и лег опять, закинув руки.
«Все-таки с таким настроением нельзя», — проговорил он тихо, и этот не его голос ему не понравился, гадливость поднялась в нем к тому, как он это проговорил… «Почему нельзя? Чего это „все-таки“ нельзя? Все можно! Вплоть до ременного пояска, — одним концом — к дверной ручке, другим — за шею… Давай, Рощин, по-честному… Экий ты чистоплюй… Такая же сволочь, как все».
И он зло и мстительно стал вспоминать тысячи встреч здесь, в Екатеринославе… Женщин со следами эвакуации на лицах и с жалкими остатками неприступности, бегающих по гостиницам с предложением разных вещиц, «дорогих по воспоминаниям»; генералов, которые похлопывают по спине, — называя батенькой, — иссиня-бритых, сочащихся здоровьем, бешено развязных знатоков по продаже и покупке железнодорожных накладных на казенные товары; громогласных помещиков, спугнутых из своих усадеб, — они теснились в номерах вместе со своими бестолковыми помещицами и длинными, веснушчатыми, разочарованными дочерьми, перехватывая деньжонки, полнокровно кушали в ресторане, где учили поваров готовить невиданные блюда, называли революцию заварухой и, в общем, коротали время среди самых радужных надежд, не покидавших российское дворянство даже в самые затруднительные времена. Он вспоминал в вестибюле гостиницы всякий люд, с чрезвычайной быстротой потерявший общественную устойчивость, — лишь по гербовым пуговицам да фуражкам можно было догадаться: это — прокурор и, видишь ты, вцепился в какого-то нахального мальчишку, счастливого спекулянта, силясь всучить ему сломанные часы; а этот — начальник департамента акцизных сборов, седой, кашляющий, с палочкой, — он, видимо, разбазарил уже свои ценности и с завистью поглядывает на богатые сделки, на мелькающие руки, в которых шевелятся кредитки…
Пронырливые спекулянты в шикарных костюмах влетают сквозь парадные двери, вертят пальцами и глазами, сбиваются в кучки, нервно шепчутся и уносятся снова на улицу, как крылатые Гермесы — боги торговли и удачи. В вестибюле можно узнать о продвижении казенных грузов, о затерявшейся цистерне с машинным маслом, о курсе доллара, вскакивающего и падающего по нескольку раз в день, в прямой зависимости от французских или германских контратак на Западном фронте, но это уже — дела серьезные… Мелкие спекулянты в вестибюле раздаются в стороны, прыгающие от возбуждения глаза их устремляются на «большого» человека…
Степенно и не спеша он входит в очень длинном пальто, в картузике или в бархатной шляпе на затылке, в руке зонтик, борода его от подбородка залоснена к шее, от этой неприкосновенной бороды можно лишь — для сосредоточия умственной деятельности — отделить пальцами один волосок и покрутить. Глаза его отражают напряженную духовную жизнь, отрешенную от мелочей, ибо он — мыслитель: он сопоставляет, ищет и находит те категории, которые обусловливают падение или подъем концентратов мировой энергии — то есть твердой валюты…
Здесь, в вестибюле и на улицах близ гостиницы, происходит игра. Официально гетманскими властями и германским оккупационным командованием она запрещена. Игроки находятся в постоянном движении на тротуаре — от дверей гостиницы до ближайшего перекрестка. При помощи пристально устремленных глаз, движения пальцев и нескольких слов они продают и покупают. Ни у кого из них валюты нет, она спрятана, и вообще количество ее в городе неизвестно. Играют на разницу курса и рассчитываются гетманскими карбованцами. В минуту создаются состояния, в минуту богач становится нищим. Счастливец идет с прихлебателями в кафе — кушать пирожное с желудевым кофе, неудачник отчаянно бредет по бульвару, и ноябрьский ветер, метущий бумажки и опавшие листья, подхватывает пыльные полы его длинного пальто.
Люди, населяющие эту гостиницу, скопляющиеся на тротуарах, в табачных лавчонках, кафе, шашлычных, торгующие и объегоривающие друг друга, были частью шумного, прожорливого стада, которое мычало и орало по всем отбитым у революции городам, где ему не мешали жрать, пить, совокупляться, жульничать и спекулировать… Это стадо надо было оберегать штыками и пушками, отвоевывать для него новые города, восстанавливать для него очищенную от большевистской скверны великую, единую, неделимую Россию…
— Пошлость, пошлость и ложь! — снова вслух проговорил Вадим Петрович. — Ну-с, а если дезертировать?
И он стал размышлять об этом, в первый раз за свою жизнь отпустив моральные вожжи, с острым наслаждением открывая в себе залежи подлости и низости… Он даже посмеивался со стиснутыми зубами… Мысли его были как неожиданное творчество, как первый грех…
«Во имя каких таких святынь проколесил ты, голубчик, по жизни на натянутых вожжах? Считал себя порядочным человеком, принадлежал к порядочному обществу, даже ушел из полка в университет, чтобы расширить умственный кругозор… В юности тебе казалось, что ты похож на Андрея Волконского. Нравственный импульс доставлял тебе удовлетворение, и этого было вполне достаточно: ты чувствовал себя чистоплотным. От всего сомнительного и нечистого ты воротил нос, как от помойной ямы. У тебя было всего только три связи с замужними женщинами, и ты порвал с этими бабами на высоте самых утонченных отношений, когда взволнованное любопытство начинало сменяться сочно привычными поцелуями… И вот — общий итог: куда же привела тебя безупречная жизнь с гордо поднятой головой? Пожарище! От человека — одна обгорелая печная труба!»
Подведя такой итог, Вадим Петрович методично начал обдумывать возможности дезертирства. Бежать за границу? Весь мир охвачен войной. Повсюду сыщики ищут подозрительных иностранцев, везут в тюрьмы и там вешают… Во всем мире бодрыми ребятами грузятся транспорты… «Тру-ля-ля, — орут ребята, — поскорее всыплем свиньям немцам и вернемся к веселым подружкам…» В океанах их торпедируют, и веселые ребята барахтаются в ледяной воде вокруг масляного пятна… В Европе колонны молодых людей в защитной одежде, сшитой как на покойников, густыми цепями, в безнадежном отчаянии покорно идут на пулеметы, на бомбометы, на минометы, на огнеметы, — огонь спереди, огонь сзади. Поездка за границу отпадает… Можно пробраться в Одессу, достать липовый паспорт и — в шашлычную — половым… Но кто-нибудь: «Ба, ба, ба, — удивится, — да никак это — Рощин, что же это вы, батенька?» Спекулировать по мелочам или даже — воровать? Нужен запас большой жизнерадостности… Сутенером? Стар… «Ну, хорошо, предположим — просуществую как-нибудь до окончательной победы: социалисты перевешаны, мужичье перепорото, англичане нас простили, с виноватым видом начинаем за Волгой собирать армию — колотить немцев. Оружие роздали, и в один ненастный день солдатье запарывает господ офицеров, героев „ледяного похода“, и сказка начинается сначала. Бедная моя Катя, так и не найденная, где-нибудь на вокзале с выбитыми окнами, среди спящих, бредящих и мертвых, позовет в последний раз: „Вадим, Вадим…“ Итак, есть еще возможность: повеситься, немедленно… Страшно? Нисколько… Противно делать это усилие над собой…»
Руки его были как лед, он затылком чувствовал их холод. Никакого решения он принять не мог. И будто маленькие человечки, бегая по нему, как мухи, растаскивали его волю, его душу… Когда стемнеет, он встанет, наденет штаны, пойдет пешком на вокзал и, наверное, даже папирос купит на дорогу… И будет жить, — такого и шашка не тронет, и пуля не шлепнет, и тифозная вошь не укусит…
За стеной, там, где была дверь, заставленная комодом, уже давно торопливо спорили два сердитых мужских голоса. Один все начинал фразу: «Слушайте, господин Паприкаки, если бы я был бог…» Но другой не давал ему договаривать: «Слушайте, Габель, вы не бог, вы идиот! Надо сойти с ума — за полчаса до выхода газеты покупать акции Крупп Штальверке…» — «Слушайте, я же не бог!» — «Слушайте, Габель, у вас не хватит потрохов, чтобы погасить мои убытки, вы — труп…»
Фразы эти насильно лезли в уши Вадима Петровича. «Вот черт, — подумал он, — хорошо бы выстрелить в дверь…» Затем за другой дверью, ведущей в гостиничный коридор, началась беготня и взволнованные голоса: «Надо же доктора…» — «При чем тут доктор, — он уже коченеет…» — «А что такое, как это случилось?» — «Как случилось, так и случилось, вам-то не все равно…»
Голоса затихли, послышался звон шпор.
— Господин вартовой начальник, простите, пожалуйста, — правда, что он племянник австрийского императора?
— Правда, все правда… Ну-ка, господа, очистите коридор.
И потом, уже у самой двери, — двое заговорили вполголоса:
— Никакое это не самоубийство, его застрелил его же адъютант, большевик.
— То есть как это, — австрийский офицер, и — большевик?
— А вы думали! Они — всюду… Не то что Вена, — Берлин со вчерашнего дня у них в руках…
— Боже мой, боже мой, это у меня не помещается…
— Да-с, бежать надо…
— Куда бежать?
— А черт его знает — на какие-нибудь острова…
— Правильно… Вчера рассказывали — в Голландской Индонезии острова с хлебными деревьями. Одежды не нужно никакой. Но как туда добраться?
Затем, без стука, в комнату вскочил мальчик, чистильщик сапог при гостинице, — с приплюснутым носом и веселым ртом — от уха до уха…
— Экстренный выпуск, революция в Германии… Пассажир, платите три карбованца…
Он бросил газету на грудь Рощину, не замечая открытых страшных глаз этого пассажира, ни его мертвенного лица…
— Деньги беру на подоконнике. Пассажир, почитайте газету…
Он выскочил из комнаты. Сердце у Вадима Петровича истерически билось, но еще долго на груди у него неразвернутым лежал слепо напечатанный газетный листок… Революция в Германии!.. Солдаты на крышах вагонов, разбитые вокзалы, толпы, поющие дикими голосами, ораторы, выкрикивающие с подножия памятников, молотя кулаками воздух: свобода, свобода! Как будто свобода заменит им хлеб, родину, чувство долга и размеренный покой веками слаженного государства! Революция, — замусоренные города, растрепанные девки на бульварах… И тоска, тоска человека, глядящего из окна на вылинявшие крыши города, где больше не осталось тайн… Даже солнце поднялось недостижимо высоко… Тоска человека, с такими усилиями пытавшегося пронести через жизнь самого себя, свою независимость, свою гордость, свою печаль.
Вадим Петрович понял наконец, что разговаривает вслух. Это уже было похоже на бред с открытыми глазами. Он развернул газетный листок. Во всю полосу большими буквами шло сообщение о начавшейся революции в Германии. Она разразилась в момент переговоров о перемирии в Компьенском лесу, когда в поезд генерала Вейгана, стоящий в артиллерийском тупике, явились германские уполномоченные.
Они спросили — каковы будут французские предложения? Генерал, не приглашая их сесть, не подавая руки, с холодной яростью ответил: «У меня нет никаких предложений… Германия должна быть брошена на колени».
В тот же день правители, которые привели Германию к позору, были свергнуты. В Берлине образовался Совет рабочих и солдатских депутатов. Император Вильгельм тайно покинул ставку в Спа и бежал в Голландию, на границе отдав голландскому армейскому поручику свою шпагу.
Через несколько минут Вадим Петрович, одетый, в шинели, туго перетянутой ремнем, в фуражке, еще раз перечел газету, стоя у окна. Сунул в карман смятые кредитные бумажки и вышел на улицу.
Он увидел: мимо гостиницы шел плотный человек, будто только что вылезший из скафандра — с большой глубины: багровое лицо раздуто, глаза выпячивались из орбит; шевеля толстыми губами, обметанными коркой, он повторял: «Продаю Крупп Штальверке, продаю, продаю…» Он перекатывал глаза на проходящих с сумасшедшей надеждой — найти дурака, еще большего, чем он…
Его начали толкать и оттиснули к стене австрийские солдаты, — они шли нестройными кучками, перекинув винтовки за спину, дулом вниз… Это был один из знаков революции, — сразу же, в первый же свой день, отказывающейся от человекоубийства… Сбоку этой толпы по тротуару шагал тоненький офицер с шелковистыми юношескими усиками; изящное лицо, напряженное до страдания, было надменно поднято, на левом погоне — красный бант. Этому мальчику, выпущенному в полк в военное время, не удалось, должно быть, пошататься в новеньком мундире, волоча металлические ножны сабли по тротуарам веселой Вены, где женщины так очаровательно беспечны. Выпало на долю — по молодости лет и добродушию — быть выбранным в солдатский комитет, и вот он ведет свою роту на вокзал, эвакуироваться, сквозь фланговый огонь злорадствующих, насмешливых взглядов… А в Вене — хаос, голод, рабочие строят баррикады…
Рощин долго глядел вслед этим гордым европейцам. У него тоже поднималось злорадство: «Недолго погостили на Украине, поели гусей и сала… Брест-то, видно, вышел боком…» Но он сейчас же насупился: «А тебе что в том? Потирают руки в Москве. А ты ступай в вонючий окоп, к своим контрреволюционерам…» И он сильнее насупился от того, что в первый раз, да еще так спокойно, цинично произнес это слово… Именно в этом слове таилась причина его душевной разодранности. Катя была прозорливее его, когда сказала в час их бешеной ссоры в Ростове: «Если ты веришь всей силой души в справедливость твоего дела, тогда иди и убивай…» По всем традиционным понятиям честного и уважающего себя интеллигента, контрреволюционер — значит подлец и негодяй… Вот и живи с этим…
Засунув руки в карманы шинели, он побрел вверх по широкому Екатерининскому бульвару. И походка у него была, как у негодяя и подлеца: шаркающая, рыхлая. Проходя мимо парикмахерской, он невольно взглянул на себя в узкое зеркало сбоку двери: ему зло и криво усмехнулось его лицо трупного цвета. Он зашел, не снимая шинели, сел в кресло: «Побрить!» Здесь тоже все внушало ему отвращение — и низенькое, теплое помещение, оклеенное отставшими от стен дешевыми обоями, и сам парикмахер с гребенкой в волосах, полных перхоти, с грязными, нежными руками, пахнущими сладкой гадостью…
Взбивая пену и не торопясь намыливать Вадиму Петровичу щеки, парикмахер говорил:
— Мало у жинки забот, — завела себе порося… Воевали четыре года, теперь у них революция… О чем они думали, почему не спросили меня? — Он раскрыл бритву и ожесточенно начал точить ее. — Большая политика и наше маленькое, тихое дело, — желаю вам иметь разницу. — Горячей пеной он начал намыливать Вадиму Петровичу щеки. — Сегодня вы у меня первый клиент. Люди сходят с ума. Если император Вильгельм убежал в Голландию, в нашем городе никто уже не хочет бриться! Я вам скажу почему. Они все боятся большевиков, они боятся махновцев, они все хотят отрастить себе щетину и походить на пролетариев. — Он с хрустом повел лезвием по щеке. — Извиняюсь, вы не любите, когда берут за кончик носа? Есть, которые это просят. Я учился в Курске, наш мастер работал по старинке, — засовывал палец в рот клиенту, а для благородных держал огурцы. С пальцем — десять, с огурцом — двенадцать, — не плохие были деньги. Вас буду брить еще раз, — времени хватит. Вот только перед вами заходил один сумасшедший. Вы знаете Паприкаки? Наш крупный финансист. У него расстроены нервы, его невозможно брить, у него сыпь на щеках, страшная боль даже коснуться кисточкой. Сегодня у него, слава богу, высыпало уже по всему телу. Так он меня утешил: немцы собираются уходить из Украины, под Белгородом уже начали наступать большевики, а в Белой Церкви объявилось новое украинское правительство: Директория. Рада была, Советы были, гетман был, Директории еще не было. Во главе — Петлюра и Винниченко. Оба в шестнадцатом, в Киеве, были моими клиентами, Петлюра — бухгалтер, служил в Земском союзе. Винниченко — писатель, мы ходили на его пьесы, — ничего особенного: одна женщина, представьте, обманывает живописца, он крупно с ней разговаривает, а тут к ней подкатился любовник, и эта дамочка устраивается с ним рядом в комнате. Живописец войти к ним, представьте, не может — разогнать-то их и бросить эту стерву не хочет, и он грызет себе руку, чтобы сухожилие перекусить, стать инвалидом, назло этой женщине. Брил я Винниченко, у него лицо дряблое, пористое… Паприкаки говорит: Директория выпустила уже универсал, призывает хлеборобов свергнуть гетмана Скоропадского… Да, не хватало гетману забот!.. — Побрив во второй раз щеки Вадиму Петровичу, он неодобрительно прищурился на его отросшие седые волосы. — Позвольте вам подстричь а-ля бокс, если желаете, осталось у меня немного заграничной краски — вороньего крыла? Кому это нужно — седая мочала? («Побрейте голову», — сквозь зубы сказал Рощин.) Слушаюсь… — И он защелкал около своего уха ножницами, будто набирая скорость. — Знаете, господин капитан, одна моя мечта: есть же на свете где-нибудь тихий городок, ну, хоть самый захолустный, с керосиновыми фонарями… Много ли нужно? Десяток клиентов. Работу кончил, трубочку закурил и сиди у дверей. Тишина, покой, мирные старички проходят, — встанешь, поклонишься, и они тебе поклонятся. О маленьких людях, господин капитан, никто сейчас не думает, — скинуты со счета. А нас нет, — вот мочала у вас и растет. Взгляните, — какими пришли и что я из вас сделал: картинка!
Рощин глядел на себя в зеркало. Лоснящийся череп был хорошей, вместительной формы — для благородных и высоких мыслей. Лицо — узкое, с изящным переходом от едва выступающих скул к подбородку, не слишком выдающемуся, но и не безвольному. Темные, сдвинутые у переносицы, брови капризно разлетались на висках, смягчая строгость умных небольших глаз, кажущихся черными от расширенных зрачков. Такое лицо не стоило бы закрывать рукой от стыда. Пожалуй, рот портил все дело. Можно солгать глазами, глаза лживы и скрытны, но рот не поддается маскировке… Видишь ты, — никакой формы, весь в движении, как слизняк… Черт знает что такое! До Фауста не дотянул, Вадим Петрович… Он поднялся, надвинул походную, грязную простреленную фуражку — несколько набок, щедро расплатился и вышел… Решения у него все еще не было никакого… Но он уже не чувствовал дряни в ногах, не цеплялся носками сапог за булыжник. Вот что значит — побывать у парикмахера! Капелька любви к себе просочилась в мутное отчаяние его души.
В окнах зажигался свет. Шумел ветер в голых тополях, уходящих вершинами в сумрак. Между стволами их — на другой стороне улицы — яркая лампочка нагло вспыхнула над размалеванной дверью ресторана-кабаре «Би-Ба-Бо»… Этот кабак славился любительскими шашлыками. При мысли о еде у Вадима Петровича слипся желудок, — со вчерашнего дня он не ел. Это было могучее, мужественное чувство голода, оно возникло и заслонило все психологические сложности. Рощин решительно свернул к освещенной двери. От дерева отделилось, пытаясь преградить ему дорогу, существо в белой юбке и уже вслед пропищало умоляюще: «Офицерик, я вам справлю удовольствие…»
Это было низкое, длинное помещение, не так давно размалеванное бежавшим из Петрограда знаменитым левым художником Валетом. Потолок в «Би-Ба-Бо» был черный, с большими звездами из серебряной бумаги. По черным стенам как бы неслись, подхваченные ураганом, желтые, оранжевые, кирпичные призраки с растопыренными ногами и руками, — угловатые схемы мужчин и женщин. Для кабака эта стенная живопись была слишком серьезна: ужас, а уж никак не чувственность, гнал по стенам это оголенное стадо. Капиталист, вложивший деньги в это предприятие, — тот же Паприкаки, — сказал однажды: «Вырвите мне ноги из туловища, если я понимаю эту мазню, меня от нее тошнит, а публике нравится…»
Рощин пообедал и пил вино. Поезд уходил в четыре утра, — он решил пробыть здесь до трех, а там будет видно… Ему было тепло, в голове слегка шумело.
Официант, — татарин из московского невозвратного «Яра», старый знакомый, — часто подходил, брал из ведра бутылки и, нагнувшись, наливая, говорил:
— Извините, Вадим Петрович, я все к вам пристаю… Вспомнишь Москву… Эх! Видите, как здесь живем. Во сне даже снится эта шушера…
Несмотря на тревожное настроение в городе, — где на окраинах и в темноте переулков раздавались одиночные выстрелы и конные гетманские стражники, проезжая вверх к губернаторскому дворцу, старались их не слышать, — несмотря на панику сегодняшней черной биржи, ресторан был полон. Кабаре еще не начиналось. На маленькой сцене сидел у пианино длинный молодой человек с вытянутой шеей, толщиной в руку, с растущими дыбом негритянскими волосами, съехавшими на затылок. Он играл попурри из опереток.
Вокруг столика Рощина было шумно и пьяно. Несколько помещиков, не выдержав томления у себя в номере среди разочарованных дочерей, встряхивались здесь за графинчиком…
— Уверяю вас, — кричал один с холеными щеками, — немцам теперь капут! К новому году английский экспедиционный корпус будет в Москве. Будем пить скоч-виски. Нет худа без добра! — Разинув рот с отличными зубами, добряк хохотал. — Получается: ура германской революции!
Другой, изысканно тощий, с глазами, насмешливо мерцающими из глубины пепельных впадин, поднял руку, прося внимания:
— Лорд-канцлер в палате лордов сидит, как известно, на мешке с шерстью… А симбирское дворянство гордилось, что у них в собрании на дворе стоит мраморный столп — в утверждение того, что с господами столбовыми дворянами во веки веков ничего неприятного не случится… А посему беспечально дремали под сенью лопухов… История российского дворянства кончена, — мешка с шерстью нам не хватало… Равно как история матушки-- России кончена, господа… Повесть о городе Глупове прочитана, книжку швырнули в угол. И случилось это не в грозу и бурю, как сказал один умнейший человек, а в простой понедельник, — бог плюнул и задул свечку… Еще в четырнадцатом году я продал землишку, и с тех пор — гражданин вселенной… Так-то вернее…
— Вам хорошо, батенька, вы Оксфордский университет кончили, а куда я с тремя моими девками денусь? Куда? — Румяный добряк засопел и потянулся за графинчиком. — А насчет конца России тоже не согласен, это у вас английская отрыжкас… В приказчики пойду, в подрядчики пойду, сам буду пахать на трех десятинах, а в Россию верю. — Он налил и сейчас же грузно повернулся к третьему себеседнику: — Куда я их дену? Выросли три коломенские версты, слезливы, конопаты, плоскогруды — тургеневские барышни, это в наш-то век! Мать во всем виновата, да и я тоже виноват, каюсь. Старшая хотела на Бестужевские курсы, — отговорили, к тому же ленива… Младшая увлекалась театром и была бы, скажу я вам, первокласснейшей актрисой… С большого ума отговорили, даже грозили… Словом, — домострой, в наш-то век!.. А все от недомыслия… Англичанин на три года вперед видит, сидя на мешке с шерстью, это правильно… А мы, так сказать, мыслили по круговращению времен года. — Выпив, потряся щеками, он неожиданно добавил: — А в общем — не пропадем…
Третий собеседник был уже настолько пьян, что только скрипел зубами и ел цветы — мелкие астры, — отрывая их от горшка на столе. Он ничего не слушал, не сводя мутных глаз с соседнего столика, где сидели очень хорошенькая девушка с большим невинным узлом пепельных волос и крупный молодой человек в полувоенной гимнастерке. Подперев щеку, не обращая ни на кого внимания, будто здесь действительно были одни призраки, он молча плакал. Девушка, жалобно морща круглое синеглазое лицо, гладила его руку, брала ее и целовала; близко наклоняясь, торопливо, испуганно шептала ему. Он медленно покачивал крупным лицом. Рощин услышал его тусклый неживой голос, каким бормочут во сне:
— Оставь, Зина, оставь меня… Я ничего больше не хочу, ни тебя, ни себя…
Он мог бы и не говорить дальше, — и без того было понятно, чем кончится эта ночь для молодого человека… Девушка чем-то напоминала Катю, не лицом, — тихой ласковостью движений… Тоже кончит жизнь где-нибудь среди сыпнотифозных на узловой станции… Их заслонили двое мальчишек, торопливо присевших за освободившийся столик. У обоих — подстриженные челки до бровей, гнилые зубы, на грязных пальцах бриллианты… «Я как урежу Машку железной палкой, — хвастался один другому, — как зачал ее топтать, аж кости у нее захрустели, у стервы…»
— Господин капитан, позволите занять место за вашим столиком?
Рощин молча кивнул. За его столик сел человек в никелированных очках, подбирая под стул громоздкие ноги. На нем был зелено-серый, тесный в груди мундир германского ландштурмиста. С трудом выговаривая русские слова, он сказал официанту:
— Пожалуйста, покушать немножко, я не кушал очень давно, — и пива, пива!
Он раздул худые щеки, показывая, как он напьется пива, засмеялся, затем с некоторым изумлением взглянул голубыми, как у галки, безбурными глазами на угрюмого Рощина:
— Господин капитан говорит по-немецки?
— Говорю.
— Если я вам мешаю, — я охотно поищу другой столик.
— Вы мне не мешаете.
Рощин на этот раз ответил мягче. У ландштурмиста было одно из тех немецких лиц, — узкое, со слегка проваленным маленьким ртом, — которое до старости сохраняет детское выражение и нежный румянец. Нос его был приподнят, словно от благожелательного любопытства к каждому человеку.
— Прежде нам, солдатам, не разрешалось бывать в ресторанах, — сказал он, — со вчерашнего дня немецкая дисциплина стала более разумной.
Рощин криво усмехнулся. Ландштурмист поспешил уточнить свою мысль, подняв по-профессорски палец с твердым ногтем:
— Дисциплина должна быть разумной, тогда она есть форма общественного порядка и необходимое условие развития. Такая разумная дисциплина рождается из глубоких социальных движений. Но если это не так, если она только одно из орудий принуждения, тогда мы ее не будем называть дисциплиной…
Он весело кивнул, оканчивая эту свою, несколько туманную, мысль.
— Эвакуируетесь в Германию? — спросил Рощин.
— Да. Наша воинская часть избрала комитет, и он вынес решение, к счастью, — хотя это было сопряжено с борьбой, — чисто принципиальное.
— Ну что ж, по-русски говорится: скатертью дорога.
— Я неплохо изучил русский язык, я знаю, — когда говорят: «скатертью дорога», это значит: «убирайся ко всем чертям»…
— А хотя бы и так… Вы, кажется, умный человек: чего же нам притворяться? Врагами были, врагами и расстались…
— Так, так, — подумав и покачав головой, сказал ландштурмист, — с моей стороны было бы напрасно и даже бестактно опровергать это.
И он опять улыбнулся тонкими губами, оканчивая и эту тему. Ему принесли еду и пиво. Он извинился, что на некоторое время выключится из беседы, и принялся за шашлык, не спеша, с каким-то даже благоговением пережевывая кусочки мяса, пшеничного хлеба и поджаренных помидоров.
— Вкусно, — сказал он, чувствуя, что Рощин не сводит с него злых, темных глаз. Он съел все до крошки, корочкой вычистил тарелку и корочку положил в рот. Полузакрыв веки, вытянул большой стакан холодного пива. — Немцы к еде относятся очень серьезно. Немцы много голодали, и предстоит еще много голодать, прежде чем будет окончательно разрешена проблема еды.
И опять его длинный палец полез вверх.
— На заре истории, когда человечество переходило от первобытного собирания даров природы к насильственному вторжению в природу, еда стала результатом трудного и опасного процесса добывания ее. Еда стала священным актом. Пожрать — значит завладеть чужой жизнью, чужой силой. Отсюда происходят представления о возможности заклятия природы, то есть магия… Магический ритуал еды ложится в основу всех мистических культов. Едят тело бога… У меня записана интересная беседа с одним русским ученым о происхождении блинов. Масленица — это праздник поедания солнца. Его заклинали хороводными плясками, затем кушали его изображение — блины. Как видите, славяне в своих мировоззрениях всегда устремлялись очень высоко…
Он засмеялся. Расстегнул металлическую пуговицу мундира и вынул пухлую, в потрепанной коже, записную книжку, — ту самую, которую два месяца тому назад доставал в вагоне, чтобы прочесть Кате Рощиной одно место из Аммиана Марцеллина. Положив ее на стол, осторожно перелистал страницы, мелко исписанные заметками, выписками, адресами…
— Вот, — сказал он, положив палец на страницу.
Но Рощин глядел не на эти строки, а на то, что было написано сверху рукой Кати: «Екатерина Дмитриевна Рощина, Екатеринослав, до востребования».
— Откуда у вас эта запись? — хрипло спросил он. В лицо ему хлынула кровь, он поднес руку к воротнику гимнастерки. Ландштурмисту показалось, что другой рукой русский офицер сейчас вытащит револьвер, — нравы были военные… Но страшные глаза офицера выражали только страдание и мольбу… Ландштурмист как можно мягче сказал ему:
— Очевидно, вам хорошо известна эта дама, я могу кое-что рассказать про нее.
— Известна…
— О, это одна из печальных историй…
— Почему — печальных? Эта дама погибла?
— С уверенностью не могу этого сказать… Мне бы хотелось надеяться на лучший исход… За время войны я увидел, что человек чрезвычайно живучее существо, несмотря на то, что ранить его легко и он так чувствителен ко всякой боли… Это происходит…
И он опять поднял было палец, — Рощин весь исказился:
— Говорите, где вы видели ее, что с ней случилось?
— Мы познакомились в вагоне… Екатерина Дмитриевна только что потеряла своего горячо любимого мужа…
— Это была провокация! Я жив, как видите…
Ландштурмист откинулся на стуле, маленький рот его стал круглым, галочьи глаза — круглыми, он хлопнул ладонями по столу:
— Я прихожу в этот ресторан, где никогда не бывал, сажусь за этот столик, вынимаю книжку… И — мертвые пробуждаются! Вы муж этой дамы? Она мне рассказывала о вас, и я тогда же представил вас таким, именно таким… О нет, камрад Рощин, вы не должны, вы не должны…
Запнувшись, он поджал тонкие губы и поверх очков строго, испытующе взглянул Вадиму Петровичу в глаза, полные слез. На благожелательно приподнятом носу у ландштурмиста проступили капельки пота.
— Я слезал раньше Екатеринослава, ваша супруга записала мне свой адрес. Я на этом настаивал, я не хотел потерять ее, как пролетевшую птицу. За дорогу мне удалось внушить ей некоторую бодрость. Она очень умна. Ее ясный, но мало развитой ум жаждет добрых и высоких мыслей. Я ей сказал: «Горе — это участь миллионов женщин в наше время, — горе и бедствия должны быть превращены в социальную силу… Пускай горе придаст вам твердость». — «Для чего, — она спросила, — мне эта твердость? Разве я хочу жить дальше?» — «Нет, — я ей сказал, — вы хотите жить. Нет ничего более значительного, чем воля к жизни. Если мы видим кругом только смерть, бедствия и горе, — мы должны понять: мы сами виноваты в том, что до сих пор еще не устранили причины этого и не превратили землю в мирное и счастливое обиталище для такого замечательного феномена, как человек. Позади вечное молчание и впереди вечное молчание, и только небольшой отрезок времени мы должны прожить так, чтобы счастьем этого мгновения восполнить всю бесконечную пустоту молчания …» Я ей это сказал, чтобы утешить ее… Итак, я слез и прибыл в свою часть. Ночью мы получили сведения, что поезд, в котором ехала ваша жена, был остановлен бандой махновцев, ограблен и все пассажиры уведены в неизвестном направлении. Вот все, что я знаю, камрад Рощин…
На сцене началось кабаре. Пианино и музыканта с дыбом стоящими волосами задвинули за кулисы. Появился дон Лиманадо, конферансье, московская знаменитость, хорошенький, с подведенными глазами, неопределенного возраста человек в смокинге и соломенной жесткой шапочке, надвинутой на брови.
— Поздравляю вас, господа, с германской революцией! — Он сам себе крепко пожал руки. — Только что был на вокзале. «Здрасте, — говорю я германскому обер-лейтенанту, — как поживаете?» — «Очень хорошо, — говорит он, — а вы как поживаете?» — «Тоже очень хорошо, — говорю я, — на дворе ноябрь, в соломенной шапочке холодно, а теплую я в Москве оставил, теперь не знаю, когда выручу». — «А вы купите, — говорит, — теплую шапку». — «Я, говорю, на шапку тысячу марок скопил, а сегодня мне за них пять карбованцев выдали». — «Ай-ай-ай», — говорит он. «Ай-ай-ай», — говорю я. Так мы с ним поговорили о том, о сем, а его солдаты на крыши вагонов лезут. «Уезжаете?» — говорю я. «Уезжаем», — говорит он. «Совсем?» — говорю я. «Совсем», — говорит он. «Очень жалко», — говорю я. «Ничего не поделаешь», — говорит он. «А в каком смысле — ничего не поделаешь?» — говорю я. «А в таком смысле, — говорит он, — что без всякого смысла». — «Ай-ай-ай, — говорю я, — а мы надеялись, что у вас этого не будет». А тут солдаты на крышах как грянут «Яблочко», — я и пошел… Кругом-то темно, ветер-то свищет, в переулках-то стреляют, а мне программу начинать, я опаздываю, на сердце кошки скребут. Я и запел.
За кулисой грянуло пианино. Конферансье подскочил, перебив ногами:
Эх, яблочко,
Ночка темная…
Куда мне теперь идти?
Разве помню я…
Повернувшись спиной к сцене, глядя в глаза этому странному немцу, Рощин спросил:
— Вы не могли бы дать сведения — в каком районе сейчас оперирует Махно?
— По нашим последним сводкам, Махно начал серьезно теснить отступающие австрийские и кое-где германские воинские части. Штаб Махно снова теперь находится в Гуляй-Поле…